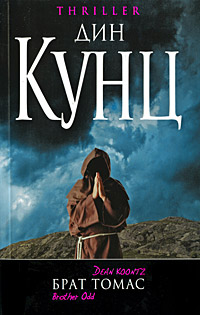Книга Скованный ночью - Дин Кунц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– В таком случае он извращенец.
– Как ни горько, но ты прав. Он моральный извращенец.
– Малый, в минуты гнева ты выражаешься очень туманно.
– Он знает, что подвергает Тоби смертельному риску, и ест себя поедом, хотя и не признается в этом. Бобби вздохнул:
– Мне жаль Мануэля. Честное слово. Но он пугает меня больше, чем Фини.
– Фини «превращается», – сказал я.
– Собаке – собачья смерть. Но Мануэль пугает меня, потому что он стал таким без «превращения». Понимаешь?
– Понимаю.
– Думаешь, это правда – насчет вакцины? – спросил Бобби, возвращая помятый тостер на буфет.
– Ага. Но будет ли эта вакцина действовать так, как они думают?
– У них ничто не действует так, как задумано.
– Но зато действует второе, – напомнил я. – Психологический взрыв.
– Птицы.
– Может быть, койоты.
– Я бы распустил сопли, – сказал Бобби, – если бы не знал, что вирус твоей ма – только часть проблемы.
– "Загадочный поезд", – пробормотал я, вспомнив о мерзости в костюме Ходжсона, трупе Делакруа, завещании на аудиокассете и коконах.
Тут кто-то позвонил в дверь, и Бобби проворчал:
– Если они хотят войти и перевернуть все вверх дном, скажи им, что у нас новые правила. Сто долларов залога и галстук на каждом.
Я вышел в холл и выглянул в мозаичное окно. Человек, стоявший на крыльце, был огромным, как дуб, вытащивший корни из земли, поднявшийся по лестнице и позвонивший в дверь, чтобы потребовать три пуда удобрений.
Я открыл дверь и отступил в тень, пропуская гостя. Рузвельт Фрост был высок, мускулист, черен и исполнен такого достоинства, которое могло бы превратить маску Тапи в маску Мельпомены. Он вошел, держа на сгибе левой руки палево-серую кошку Мангоджерри, и закрыл за собой дверь.
Голосом, которому не было равных по глубине тона, мягкости и музыкальности, он сказал:
– Добрый день, сынок.
– Спасибо за приход, сэр.
– Ты снова навлек на себя беду.
– На меня хорошо держать пари.
– Много смертей впереди, – мрачно сказал Фрост.
– Сэр?
– Так говорит кошка.
Я посмотрел на Мангоджерри. Она устроилась на огромной руке Рузвельта так уютно, словно была без костей. Кошка могла бы сойти за муфту (будь Рузвельт человеком, способным носить муфты), если бы не зелено-золотистые глаза, в которых горел безошибочно узнаваемый ум.
– Много смертей, – повторил Рузвельт.
– Чьих?
– Наших.
Мангоджерри не отводила взгляда.
Рузвельт сказал:
– Кошки знают правду.
– Но не всю.
– Кошки знают, – стоял на своем Фрост. Глаза Мангоджерри казались полными печали.
Рузвельт посадил Мангоджерри на один из кухонных стульев, чтобы кошка не порезала лапы об осколки фарфора, еще валявшиеся на полу. Хотя Мангоджерри, сбежавшая из Уиверна и выведенная в генетических лабораториях, умна так же, как мой дорогой Орсон или средний участник телевикторины «Колесо Фортуны», и намного умнее политических советников Белого дома за последнее столетие, тем не менее в ней достаточно кошачьего, чтобы просыпаться и тут же засыпать снова даже (если верить ее предсказаниям) накануне Судного дня, до которого нам едва ли удастся дожить. Может, Рузвельт и прав: кошки знают многое, но они не страдают избытком воображения и слабыми нервами.
Если уж говорить о знаниях, то Рузвельт и сам знает больше многих. Знает американский футбол, потому что в 60-х и 70-х был главным украшением футбольного поля и получил у спортивных журналистов прозвище Кувалда. Теперь, в шестьдесят три года, он преуспевающий бизнесмен, владеющий магазином мужской одежды, а также минимум половиной акций местной гостиницы и «Кантри-клуба». Кроме того, он много знает о море и яхтах, живя на борту 18-метровой «Ностромо», которая стоит на дальнем краю бухты Мунлайт-Бея. И конечно, может разговаривать с животными лучше доктора Айболита: это бесценный талант для жизни в здешнем Диснейленде Эдгара По.
Рузвельт настоял на том, что поможет нам ликвидировать остатки разгрома. Хотя было странно заниматься уборкой бок о бок с легендой мирового спорта и наследником святого Франциска Ассизского, тем не менее мы вручили ему пылесос.
Мангоджерри, разбуженная воем, подняла голову, выразила неудовольствие, показав зубы, а затем снова уснула.
Моя большая кухня в присутствии Рузвельта Фроста кажется маленькой даже тогда, когда он не орудует пылесосом. У него рост метр девяносто пять, чудовищная шея, плечи, грудь, спина и руки; невозможно представить себе, что он вышел из такой хрупкой вещи, как материнская утроба; его скорее вытесали из глыбы гранита, отлили в форме или собрали на тракторном заводе. Рузвельт выглядит моложе своего возраста: на его висках лишь несколько седых волосков. Он преуспевал на футбольном поле благодаря не столько своим размерам, сколько мозгам; в шестьдесят три года он почти так же силен, как прежде, а умен намного больше, потому что относится к тем людям, которые учатся всю жизнь.
И пылесосом орудует как сукин сын. Вскоре мы объединенными усилиями привели кухню в относительный порядок.
Но я боялся, что она никогда не станет прежней. В горке уцелела лишь одна полка с остатками вустерского фарфора. Зрелище было печальное – моя мать любила кофейные чашки, расписанные от руки яблоками и сливами, десертные тарелки с ягодами черники и грушами… Любимые вещи матери были не ею самой, а всего лишь вещами; и тем не менее, хотя нам хочется верить, что воспоминания так же вечны, как гравировка на стали, даже самые теплые и любовные из них пугающе эфемерны. Детали забываются, и лучше всего мы запоминаем то, что связано с местами и вещами; память реализуется в форме, весе и плотности реальных предметов и воскресает при прикосновении к ним.
Но будничный сервиз уцелел, и пока Рузвельт расставлял на кухонном столе чашки и блюдца, я сварил кофе.
Бобби обнаружил в холодильнике большую коробку, в которой хранились мои любимые булочки с орехами и корицей, и воскликнул:
– Carpe crustulorum!
– Что это? – спросил Фрост.
– Лучше не спрашивайте, – посоветовал я.
– Лови печенье, – перевел Бобби.
Я принес из гостиной пару подушек и положил их на стул, чтобы Мангоджерри – сразу проснувшаяся – могла усесться повыше и принять участие в пирушке.
Пока Рузвельт отламывал куски булочки и обмакивал их в блюдце с налитым для кошки молоком, пришла Саша, закончившая свое таинственное «дело». Рузвельт называет ее дочкой. И хотя иногда он говорит нам с Бобби «сынок», но Сашу ценит так высоко, что и в самом деле охотно удочерил бы ее. Я стоял за спиной Рузвельта, когда он обнял Сашу и поднял ее в воздух. Она утонула в этих медвежьих объятиях, как будто была маленькой девочкой; виден был только носок ее туфли, повисший в дюйме от пола.