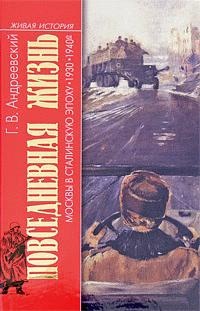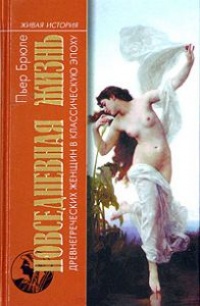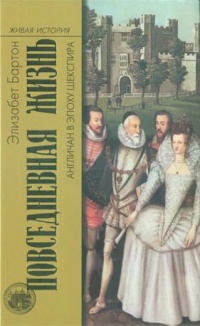Книга Повседневная жизнь Москвы в Сталинскую эпоху 1920-1930-е годы - Георгий Андреевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пройдут десятилетия, и та же невеселая мысль придет к поэту Иосифу Бродскому, отбывавшему ссылку в наших северных краях.
У населения тюрьмы были свои, тюремные интересы. Прежде всего тюрьма жила слухами об амнистиях, о «разгрузках» — такие проводились в двадцатые годы.
Амнистию ждали в январе по случаю Кровавого воскресенья, в феврале — в связи с годовщиной Февральской революции, в марте — в честь Международного дня работницы или, как его еще называли, Международного коммунистического женского дня, а также в честь Дня Парижской коммуны, ожидали ее в августе, потому что в прошлом году она была в августе, ждали и к 1 Мая, и к 7 Ноября, ждали в декабре по случаю очередной годовщины образования СССР.
Если амнистию ожидали в основном к праздникам, то «разгрузку» ждали постоянно. Тогда в тюрьмах количество арестантов не было секретом. Число их официально вывешивалось на специальных досках, да и те заключенные, что работали в канцелярии тюрьмы, знали о количестве в ней зэков. С увеличением их числа надежда на «разгрузку» возрастала. Тюрьма радовалась каждому новому заключенному. Чем больше — тем лучше: росли шансы выйти на свободу по «разгрузке».
В ожидании амнистии или «разгрузки» надо было как-то коротать время. Читать любили немногие. Большинство интересовалось разве что судебной хроникой в газетах. При этом жалели и воров, и бандитов. Когда же узнавали о том, что легко отделался какой-нибудь заворовавшийся чиновник, — возмущались: «Расстрелять надо было гада!»
В тюрьме был свой «театр для себя», ведь заключенные любили шутки. Лев Леонтьев в книге «Заключенные», вышедшей в 1927 году, описывает, в частности, такой розыгрыш:
«Какой-нибудь заключенный ожидает освобождения: то ли срок ему подходит, то ли ждет он помилования, отмены приговора. Человек, естественно, нервничает. Позабавиться за счет этой нервности и не очень уравновешенной психики нервничающего — нетрудно.
Разыгрывающие входят в соглашение с кем-нибудь из заключенных другой камеры, имеющих право хождения по коридору, чтобы он в нужный момент, когда надзиратель чем-нибудь занят, подошел к волчку (глазок в двери камеры. — Г. А.) и под видом «начальства» «вызвал на свободу» намеченную жертву.
Тем временем жертва обрабатывается.
Как только кому-нибудь удавалось под тем или иным предлогом выйти в коридор, он по возвращении в камеру сообщал — так, между прочим, не глядя на жертву, чаще всего даже вполголоса:
— А Фирсова-то (к примеру, фамилия жертвы) сегодня на свободу! Сейчас из канцелярии приходил один, справлялся: здесь он?
Фирсов, разумеется, вскакивает как ужаленный:
— Что? Что ты говоришь? Кто справлялся?
— Да там, один. Черт его знает, кто он! В форме, не знаю…
— Ну?!
— Ну спрашивал! Фирсов, говорит, здесь?
— Ну?
— Что «ну»? Спрашивал, говорю!
— Да говори ты, черт собачий, чего спрашивал?
— А я не знаю. На свободу, говорит, что ли…
— Да что он говорил?
— Да отстань ты от меня, сволочь паршивая! Чего пристал! Говорил! Кому говорил? Сказал тебе — не знаю, значит, не знаю!
И отойдет, и больше от него слова не добиться. Но почва подготовлена. Фирсов ждет. Напряженно ждет.
Вдруг где-то хлопнула дверь на коридоре, кто-то подходит к камере, открывается волчок — один глаз только видно, — и этак начальственно:
— Фирсов здесь?
— Есть! Есть! — поспешно отзывается Фирсов.
— Как имя!
— Иван.
— Отчество?
— Петрович.
— Он самый! Ну, собирайся с вещами! На свободу!
Волчок «пока» закрывается. А Фирсов спешно собирает свое барахло, рассеянно благодарит искренне радующихся за него товарищей, дарит соседу ложку, взять ее с собой — дурная примета. Раздает все, что ему лишнее на свободе, и «не в себе» от радости ждет. Вот-вот загремит дверной засов и:
— Фирсов, на свободу!
Но время идет, а сакраментальная фраза не раздается.
Товарищи между тем подзадоривают:
— Стучи, Фирсов, в двери! Что это они тебя, паразиты, маринуют?
Фирсов не выдерживает, стучит. Подходит коридорный надзиратель:
— Что надо?
— Да вот меня, Фирсова, вызывали на свободу!
— Фирсова? Понятия не имею! Никто тебя не вызывал!
И волчок захлопывается, а в камере дикий хохот:
— Купился!
Но Фирсов «купился» твердо. Теперь он не верит, что его попросту разыграли. И мечется, бедный, между правдой и ложью, не зная, где одна, где другая. И ждет. Ждет до горького разочарования, до бессильных, нередко, слез втихомолку, после вечерней поверки, когда всякая надежда должна рухнуть». Бывали шутки злые и примитивные. Жертвами их часто становились спящие сокамерники. Вставят такому между пальцами ног кусочки бумаги и подожгут. Спящий от боли проснется, начнет крутить ногами, как будто на велосипеде едет. Эту «шутку» так и назвали «велосипед».
Или еще: свяжут двух спящих за ноги или за другие, сугубо мужские части тела, а потом ка-ак гаркнут у них над ухом. Те от испуга вскочат, да тут и завизжат от боли и, не поняв, что произошло, начнут тузить друг друга. Вставляли еще в нос «пфимфу» из ваты и поджигали. Спящий набирал полную грудь вонючего дыма, задыхался, кашлял под общий хохот сокамерников.
Издевались и над неспящими. «Рубили банки»: оттягивали кожу на животе и били по оттянутой коже ребром ладони. Руки у тюремных садистов были крепкие, так что после второго удара могла появиться кровь. Была еще такая дурацкая игра: «загибали салазки», то есть закидывали ноги кверху, да так, что не всякий позвоночник выдерживал.
Поскольку иметь ножи заключенным не разрешалось, играли с ложками. Несведущего новичка клали на нары, оголяли живот, и «палач», плюнув ему на живот, растирал слюну, а потом с криком: «Поддержись, ожгу!» — сильно бил по этому месту ложкой. «Шутили» с новичками и так положат под одеяло с головой, а потом бьют по голове ложками, предлагая угадать — кто ударил.
Существовала также игра «Выбор старосты». Начиналось все с крика: «Долой старосту! Давайте нового выбирать!» После этого каждый писал записку с именем нового старосты и вкладывал в согнутый локоть. Всем завязывали глаза, в том числе и новичку. Он подходил и зубами вытаскивал записку. Одна из них не поддавалась. Тогда новичок срывал повязку и видел перед собой половой член сокамерника. Член подбирали обычно наиболее убедительный.
«Развлечения» эти описывал еще знаменитый российский тюрьмовед М. Н. Гернет в книге, названной им «В тюрьме». Что же касается старост, то таковые существовали еще в дореволюционных тюрьмах. Обычно их выбирали из так называемых «Иванов», то есть закоренелых бандитов, и делали они все, что хотели. В 1915 году вышло распоряжение о том, что администрация может назначать себе помощников из заключенных для раздачи продуктов, приема прошений и пр. После революции, ветры которой подули в тюремные щели, возникло даже самоуправление заключенных. Снова стали командовать «Иваны». Но в ноябре 1920 года появилось «Положение об общих местах заключения в РСФСР», которым вводилась должность «дежурного по кухне». Заключенные назначались дежурными по очереди. Они принимали продукты для кухни от кладовщиков. Это делалось еще и для того, чтобы не было разговоров о том, что тюремное начальство обкрадывает заключенных.