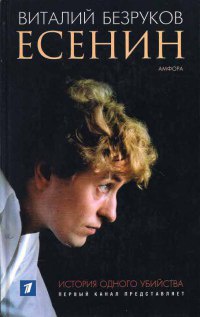Книга Сергей Есенин - Станислав Куняев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Много их было, почитавших Есенина за некое ставрогинское подобие… А еще больше тех, кто видел в нем хулигана от безделья. Интересный в этом смысле вышел разговор с поэтом Николаем Полетаевым.
– Ты знаешь, как Шекспир в молодости скандалил?
– А ты что же, непременно желаешь быть Шекспиром?
– Конечно.
– Так если он и стал великим поэтом, то не благодаря скандалам. Знаешь, как он работал?
– А я не работаю?
У Есенина даже губы задрожали от обиды.
– Если я за целый день не напишу четырех строк хороших стихов, я не могу спать.
Он писал в это время на ходу, во время прогулок… Его видели праздношатающимся, сидящим за кафейным столиком, запоминали влипающим в очередную историю… Лишь единицы запомнили сжатые губы, ничего и никого не видящие глаза, нечленораздельное мычание, раздававшееся в такт походке, из которого вдруг выплывали отдельные слова. Иной знакомый, встречающий его в переулке, обращался с сакраментальным вопросом:
– Вечно ты шатаешься, Сергей. Когда же ты пишешь?
– Всегда.
Постепенно из неясной музыкальной волны рождались слова, сливающиеся в стихотворные строки.
Первое, что вспоминается здесь, – блоковское «Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь…». Но, отвлекшись от первого впечатления, прозреваешь гоголевский Невский проспект с его газовыми фонарями, что зажигает дьявол, дабы показать все в ненастоящем виде, проспект, лгущий во всякое время года… Только интонационно стихотворение больше схоже не с гоголевской фантазией, а с «ржавой мретью» Достоевского в «Неточке Незвановой» и «Преступлении и наказании».
Есенин «шатался», как «шатались» герои Достоевского по сумрачным, неприветливым улицам, снедаемые раздирающими мыслями или одной пламенной страстью. «Я сейчас собираю себя и гляжу внутрь», – писал он Мариенгофу. Этот взгляд внутрь себя помогал собрать части разорванного целого, но он же обнаруживал тот душевный перелом, когда всерьез думалось о невозможности дальнейшего бытия на этой земле.
Это в душе, в стихах… А в обыденной жизни возможность подобного исхода неизменно представала в трагикомическом, если не в совершенно смешном виде.
Из письма Л. Повицкому 1919 года:
«Милый Лев Осипович! Как вы поживаете? Али так, али этак? Кому повем печаль мою?..
Сколько раз я зарекался по той улице ходить!
Я живу ничаво, больно, мижду прочим, уж тижало, думаю кончать…
Жить не могу! Хочу застрелица… А револьвера убежал на улицу.
Вдруг лопнувшая струна[2].
Память услужливо подбрасывает и «пистолет юнкера Шмидта» из письма к Евгении Лившиц, и приветствие поэта, обращенное к даме во время знакомства: «Свидригайлов!», и кличку «Алеша Карамазов», которой Есенина встретили крашеные «юрочки» в литературном Петрограде. Карамазовское находило свое место в душе поэта, пусть занимало в ней сравнительно небольшую нишу, но временами, повинуясь настроению, в полной мере выплескивалось наружу.
Спасал и приводил в чувство Гоголь. Благодаря ему открывались новые источники жизненных сил, уходили мрачные мысли, рождалось ощущение самоценности жизни, независимой от окружающей мерзости.
– Я у него все люблю… Начнешь читать – и весь мусор с души сдувает!
«Это теперь мой единственный учитель», – говорил Есенин, с любовью поглаживая корешки гоголевского Собрания сочинений. Перелистывая «Мертвые души», он отыскивал строчки, идеально соответствующие его нынешнему состоянию.
«Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишко, село ли, слободка, – любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строенье, все, что носило только на себе впечатленье какой-нибудь заметной особенности, – все останавливало меня и поражало… Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользнет теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои неподвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!..»
Равнодушный взгляд на «пошлую наружность» убитой русской деревни обнаружит себя позже, и не в стихах, а в публицистике и в устных разговорах. Теперь же появляется впервые и набирает звук нота, услышанная им у Гоголя, по которой в дальнейшем он и будет настраивать свою лиру.
Каждая строфа этого стихотворения звучит по нарастающей, и когда кажется, что после «буйства глаз и половодья чувств» ничего сильнее не скажешь, вдруг следует образ всадника, знакомый нам по стихам о «чудесном госте», который под воздействием некоего волшебного жеста оживает сейчас, обретая черты самого поэта.
В 1918 году Есенин, восторгаясь Гоголем, находил соответствие окружающей жизни образу птицы-тройки, даром что несущей в бричке Чичикова, но поражающей силой и удалью своего полета… «Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?.. Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богом!..» Познав на себе, что значило это «наводящее ужас движение», и «неведомую силу» птицы-тройки, разметавшей по кочкам всю прежнюю жизнь, Есенин ищет в Гоголе ответа на иной вопрос: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами?» Связь эта отыщется им в том измерении, о существовании которого догадывается человек, но ни определить, ни назвать его не в состоянии.