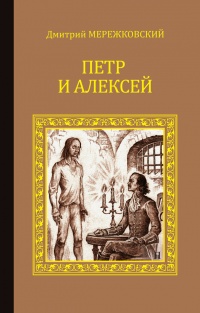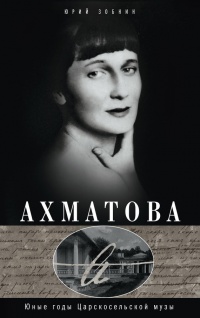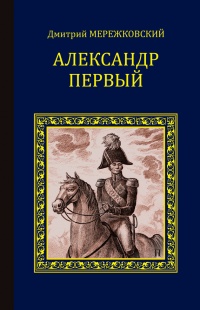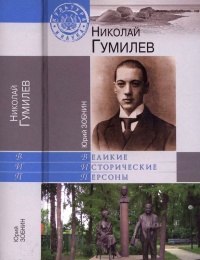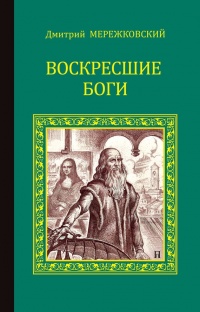Книга Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Струве дрожал, как в лихорадке.
– Агафья! – истерически закричал он. – Если кто из поклонников придет – не пускай! Запри двери!
А в запертую дверь уже кто-то ломился и слышался хриплый голос:
– Нет, ты коли наш, так впусти! Мне, брат, многого не надо… Дашь на полбутылки с закуской, так я любому интеллигенту морду разобью. Петра, а Петра!.. Пусти, чтоб тебе лопнуть!»
Однако подобные «шалости», призванные любой ценой скомпрометировать «веховцев» и сорвать предложенный ими честный и открытый диалог, были предназначены для широкой публики. Для интеллектуальной элиты готовилась «тяжелая артиллерия» – и главную роль здесь должно было сыграть Религиозно-философское общество. Заседание, посвященное «Вехам», было назначено на 21 апреля 1909 года в зале Польского общества любителей изящной словесности на Троицкой улице.
Мережковский был главным докладчиком.
Большинство «веховцев» – его давние друзья, нет, не просто друзья – соратники и единомышленники по Религиозно-философским собраниям и «Новому пути». Именно он, Мережковский, повернул к религиозным проблемам в 1904–1905 годах молодых «легальных марксистов» – Бердяева и Булгакова… С Гершензоном беседовал часами о том самом, о чем сейчас прочел на скромных страницах сборника, набранных дешевым «слепым» шрифтом. В самые трудные для него месяцы они были с ним вместе, поддерживали его, чем могли…
После краткого выступления Философова, бегло охарактеризовавшего положительную роль интеллигенции в русской истории с Петра Великого, Мережковский медленно вышел на трибуну.
«– Тяжело говорить горькую правду о близких людях, – глухо начал он. – Между участниками „Вех“ есть люди мне близкие.
Если я все-таки решаюсь говорить, то потому, что дело идет о слишком важном, чтобы не забыть все личное. Но остается неизменным, по крайней мере, с моей стороны, это личное: уважение ко всем, и больше, чем уважение к некоторым.
Судя их, сужу себя в прошлом: ведь и я когда-то был почти там же, где они теперь; я знаю по собственному опыту, какие соблазны туда влекут. Когда их бью, бью себя.
Пусть уж они простят меня, если могут…»
Речь Мережковского была блистательна. И раньше лектор «милостью Божией», теперь он демонстрировал ошеломленным слушателям весь невероятный блеск своего зрелого ораторского мастерства. «Его чтение было так талантливо, до того блестяще, так остроумно и колко, что не только публика слушавшая, но вот и я, грешный, все прерывал чтение хлопками, – признавался Розанов. – Мережковский так и блестел, и руки сами и неудержимо хлопали».
И лишь какое-то время спустя, усилием воли стряхнув с себя демонический гипноз Мережковского, Розанов испугался. «При хохоте зала он их, своих друзей, пинал ногами, бил дубьем – безжалостно, горько, мучительно, – с ужасом думал Василий Васильевич, тоже „друг“ и тоже в прошлом „соратник“ Мережковского. – Весь тон был невыносимо презрительный, невыносимо высокомерный… Дмитрий Сергеевич горел звездою над болотными огоньками „Вех“…»
Розанов вспоминал, что даже почувствовал неожиданное облегчение, когда после доклада Мережковского «практический социал-демократ» Столпнер, защищая в прениях «русскую интеллигенцию как героическую и носительницу идеала вечного улучшения», вдруг не выдержал и, тряся скрюченными пальцами, начал истошно орать на Струве, бессвязно поминая «англичан, Изгоева, онанистов (буквально!)». «Это было хорошо… Сцепились два интеллигента, прямо за волосы, без фраз. Значит – живы».
В холодном же блеске Мережковского было нечто страшное, мертвенное.
Мережковский сравнивал русскую интеллигенцию со старой клячей, через силу тянущей огромную телегу, – из страшного сна Раскольникова. Глумящиеся мужики забивают ее колами насмерть.
– Телега – Россия, лошаденка – русская интеллигенция…
Изуверами-мужиками оказывались авторы «Вех»…
Но за этими блистательными риторическими фигурами скрывались старые, бесчисленное количество раз за эти годы повторенные и уже «полустертые» почти до штампа схоластические построения.
Религия – динамична, устремлена ко Второму Пришествию, к «Царству Божиему». Атеизм и мещанский позитивизм – статичны, довольствуются настоящим.
Революция – динамична, консерватизм – статичен. Поэтому революция по природе своей – религиозна, консерватизм же – атеистичен, неспособен к подлинной вере.
Носителем революционного сознания в России является интеллигенция. Следовательно, только революционная интеллигенция среди всех образованных слоев русского общества способна к подлинной, «живой» религиозности.
– Где же и зародилось революционное понимание всемирной истории, как не в христианстве? – риторически вопрошал Мережковский. – На Западе, в папстве, абсолютизме духовном, на Востоке, в кесарстве, абсолютизме светском, вера в грядущего Освободителя, эсхатология, иссякла, исказилась и окаменела; но огненный родник ее доныне бьет в сердце русского народа – в освобождении, в интеллигенции – во всех русских отщепенцах, «настоящего Града не имеющих, грядущего Града взыскующих»…
Мережковский подчеркивал, что борьба с интеллигенцией есть борьба с самой возможностью «светлого будущего» для России и в «общественном», и в «религиозном» смыслах.
«Кажется, наступил тот полунощный час, когда вот-вот раздастся крик петухов, возвещающий солнце.
Прислушаемся же, не прозвучит ли в наших сердцах этот крик; жив Господь; и живы души наши, да здравствует русская интеллигенция, да здравствует русское освобождение!»
И под гром аплодисментов он сошел с трибуны.
Казалось, что никаких выступлений уже не будет; но нет, – из зала как-то боком вышагнул Семен Людвигович Франк и через мгновение был уже на трибуне, бледный, осунувшийся, но решительный и собранный. Ожидая, пока утихомирится зал, он спокойно протер свои совсем уж «интеллигентские» круглые очки и, нацепив их, укоризненно посмотрел на оппонента.
– Для меня загадочно мировоззрение Дмитрия Сергеевича, – тихо, но очень твердо, так что все услышали каждое слово, сказал Франк. – Что означает для него религия? К чему она его обязывает, и обязывает ли вообще к чему-либо иному, кроме той социальной метафизической риторики, которую исповедуют и атеисты? Или, в самом деле, религия есть столь пустая вещь, что ее исповедание состоит в простой подмене слов, что достаточно поставить вместо Маркса – апостола Иоанна, вместо «эрфуртской программы» – апокалипсис и вместо «государства будущего» – град Новый Иерусалим, и дело в шляпе?… Такой взгляд содержал бы величайшее оскорбление понятия религии, и трудно допустить, чтобы Дмитрий Сергеевич серьезно и в глубине души его держался; но слова и действия его как будто говорят это.
В зале стало очень тихо, а Франк, по-прежнему негромко, спокойным и уверенным голосом продолжал:
– Участники «Вех» полагают, что переход интеллигенции от нигилизма и атеизма возможен только как коренное культурное перевоспитание личности, через переоценку всех, в том числе и общественных ценностей. Как же мог Мережковский, поставивший, по-видимому, своей задачей религиозную миссию среди интеллигенции, не заметить этого духа «Вех», который, казалось бы, должен ему быть близким и родственным? Одно из двух: или религиозно-философский пересмотр интеллигентского мировоззрения вообще не нужен, – и тогда пусть Мережковский объявит себя попросту, без оговорок и без мнимо мистического жаргона, позитивистом и социал-демократом, или же пересмотр все же нужен, и тогда – правда на нашей стороне.