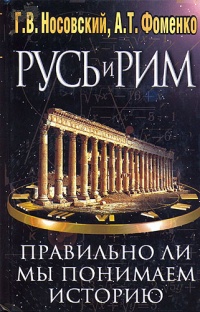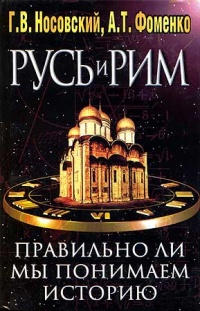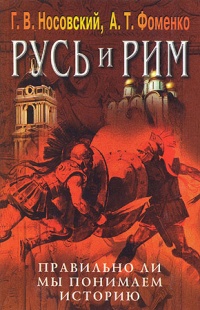Книга В окопах. 1916 год. Хроника одного полка - Евгений Анташкевич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но Лаума отказалась от подношения. Когда он рассчитался за обед и положил на стол красивую, не самую дешёвую брошку с любимым в здешних местах янтарём, очень крупным, Лаума перестала улыбаться и с холодными глазами отодвинула брошь, смахнула со скатерти крошки и ушла в кухню. Больше Смолин её не видел. В станционном здании он готов был разорвать жандармов, и вот Лаума катит прямо под его окном в ту же сторону. Ужасно, как всё это было неприятно.
И вдруг в голову пришла ещё одна неприятная мысль, от которой он поморщился, – Жамин.
«Вот сволочь, он всё записывает!»
Жамин действительно записывал в книжечку его долги.
«Смерд!»
От Жамина, надо отдать ему должное, всегда пахло одеколоном, и недурным, но: «Всё равно – смерд!»
Смолин ненавидел Жамина. Точнее – нет, Жамин был слишком мелким как объект для ненависти. Смолин его презирал.
Он даже заёрзал, сидя на полке, но успокоился, почувствовав на поясе толстый бумажник: «А всё же польза, как говорится, с паршивой овцы – хоть шерсти клок!»
Польза была – деньги, но: «Сволочь он!», и всё тут!
И тут же пришла ещё одна, ещё более неприятная мысль: Жамин был соперник, он видел его у грота, и Гришка, денщик, рассказывал, что в отряде ни для кого не секрет, у кого квартирует прапорщик, у старой тётки Лаумы Майги через два двора. Вот и не взяла подношение. Но Смолину очень не хотелось расстраиваться из-за бабы, пусть даже красивой, и, стараясь примириться с этой ситуацией, он подумал: «Они же хамы! Им друг с другом проще договориться».
Он осмотрелся в купе, после съёмной квартиры в Риге, где он держал брехливого денщика, тут, в одиночестве, ему было уютно.
«А что-то я давненько не занимался… – Он отбросил все дурные мысли, подтащил саквояж и стал искать. – Вот оно! Ну-ка, как там с самого начала? Ага… – Смолин стал вспоминать: – «Немало объездил… на свете земель… скиталец достойный… рыцарь Мигель… Всегда на турнирах он был впереди, – Смолин задумался, вспоминая: – И дамы везде к его льнули груди…»
Смолин развернул бумажку, которую достал из карманчика саквояжа, и краем глаза окинул походное содержимое: несессер, коробка с сигарами, фляга коньяку, бельё, но главное под всем этим – деньги мелкими купюрами. Крупные он держал в портмоне на поясе, аккуратно зашитом денщиком. Он похлопал себя по этому месту и решил, что, пока он один, можно снять китель. Он встал, подошёл к двери, приоткрыл и выглянул в коридор, как раз в это время мимо шли двое военных врачей и за ними две сестры милосердия. Он закрыл дверь. К поезду, шедшему в Петроград, как и к остальным, кроме высших штабных, цепляли санитарные вагоны. Как слышал Смолин, уже не хватало ни поездов, ни вагонов и раненых вывозили при первой возможности, чем угодно. Если на каком-то фронте было затишье, то вагоны и локомотивы перебрасывали на другой, где велись активные действия, и персонал тоже. На Северном сейчас тихо, а Юго-Западный давал врагу прикурить, вот и переезжают с места на место. «Скорее всего, во Пскове эти вагоны отцепят и пойдут они на Дно! – Смолин улыбнулся каламбуру. – А дальше на Витебск и тэ дэ и тэ пэ! А рыцарь надежд никому не давал!» Смолин снял китель, повесил на бронзовый крючок, отряхнул на себе шёлковую нижнюю рубашку и почувствовал, что с закрытой дверью стало душновато. Он приоткрыл окно, в купе посвежело и повеселело.
«Рой лет»… – повторил про себя поручик слова, написанные давно, они ему не нравились: «рой лет», ерунда какая-то, некрасиво: «рой лет», «стилет», «пистолет», «сколько лет»? О! Кажется, нашёл! «Прошло»! Вот теперь правильно – «прошло»: «В блужданьях напрасных прошло сколько лет…» – Смолин щелкнул пальцами и заглянул в бумажку:
«Тоже нехорошо, в зубах застревает: «вотпре́дним», как будто кость грызу, а надо… надо проще: надо – «вот край перед ним, полный странных примет…»! Та-ак… хорошо… пошло-поехало… – Ему уже нравилось: – Кажется, и с Мигелем я отлично придумал: Миша, Михаил, Мишель, Майкл тут никак впору бы не пришлись! Итак:
Смолин перечитал то, что получилось, – раньше было не очень, а сейчас ничего. Он начал сочинять это стихотворение ещё до войны, он встречался с красавицей, дамой полусвета, Эсмеральдой, откуда и взялся «Мигель», белой и холодной, как каррарский мрамор, этот мрамор и привёл Смолина писать, потому что во всём в ней был обман. В детстве его младший брат остался с мамой в Петербурге, отец взял его, Мишеньку, старшего, одного, и они на всё лето уехали в Италию: Милан, Рим, Флоренция, Неаполь, и резало глаза, когда он смотрел на белый мрамор, и под жарким солнцем камень был прохладный, а в тени совсем холодный.
«Вот как раз я сейчас в такую и еду», – подумалось ему.
«Тёмно-серый гранит!» – Смолин задумался, он невидящими глазами смотрел на мелькавшее за окном. – Это уже не Рим, не Флоренция. Мигель мог ехать только в Мадри…т! М-да! – Смолин вдруг задумался о странностях стихосложения: – «Грани…т» – «Мадри…т», тогда можно, если куда я еду сейчас, и «Петрогра…т»?!
В Риге садиться было нельзя, на вокзале стояли патрули. В первый раз, когда пришла мысль отправиться в Питер, Смолин пошёл напролом, помог перстень Пажеского корпуса и значок лейб-гвардии кирасирского его величества полка, который он так и не снял. Армейские пехотные офицеры в патруле смотрели на него косо, но остановить не решились. Всё правильно, он, «жёлтый» кирасир его величества, да ещё и с нашивкой за побег из плена, поставит на место любого… кроме дядьки… однако с дядькой лучше не связываться, да и задача не в том, чтобы кого-то ставить на место, а в том, чтобы добраться до Питера…
А уж там!!!
«Внезапно… – Бумажка была ему не нужна, эту и несколько следующих строф он помнил наизусть: – В окне, как луч солнца, возник богини с заветной картины той лик. Наш рыцарь к воротам рванулся в момент, но стражник его осадил: «Документ!»