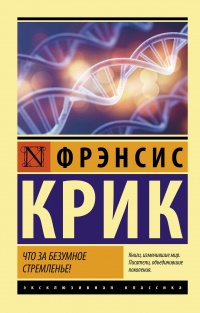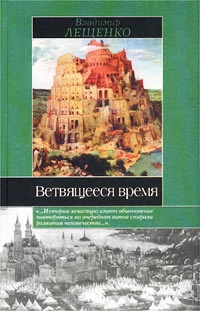Книга Крик коростеля - Владимир Анисимович Колыхалов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Погорельцев кратко поведал о своих злоключениях. Кошелев выслушал. У рта прорезались скорбные складки, глаза сузились.
— Да он спятил! Мы с ним как договорились? Добудете зверя — угостите мужиков, как водится. И все! У костра да за доброй беседой — за милую душу ведь, а?.. Ах он паршивец!
— Неунывный вы человек, Петро Петрович! — повеселел Погорельцев. — Оставлю, наверно, я город, приеду в колхоз к вам прорабом. Вот понастроим тогда!
— Хоть сейчас заявление пишите!.. Вот что, Сергей Васильевич. Пошлем-ка мы этого Дениса куда подальше. Дело в том, что наш ветврач Петроченко, Николай Никодимыч, тоже засек берлогу. Я об этом недавно узнал. Мужик он — дай бог какой добрейший и вернословный! Уж этого-то я знаю не с того боку, с какого мне пышкинский егерь известен. Идем в контору, я позвоню, он вас возьмет в компанию…
Погорельцев едва поспевал за Кошелевым. На душе стало легче и как-то не замечалось уже, что на улице неуютно, что леденящий ветер свистит, и кружится, змеится под ногами поземка…
Сверчок
1
Сильный, внезапный дождь застиг Карамышева за Петушками у самой реки, на чистой открытой поляне, где он, стоя спиной к задумчивой заводи, писал акварелью кедры на склоне пологой горы.
Крупные капли стучали о туго натянутый зонт; травы, цветы блестели, вздрагивая; над торфяным болотцем неподалеку перестали летать с криком чибисы, а бор на горе потемнел и насупился.
Все небо было обложено плотными тучами, просвета нигде не виднелось, но Карамышев предчувствовал, что ненастье будет коротким и лучше не уходить, переждать. С такой охотой он шел к этой заводи, так увлеченно начал писать — и вдруг все бросить, смазать, вернуться к работе, которая уж давно изнурила и надоела…
И верно, дождь продолжался недолго, солнце выкатилось из-за туч, появились белобокие облака, побежали легко друг за другом, рождая подвижные тени. Ветер по-прежнему мощно тревожил кедры в вершинах, они качали лохматыми лапами, напоминая собою огромных и добрых зверей, что выкупались и отряхиваются…
Такими представились кедры Карамышеву, и он опять ощутил в себе то бодрое состояние, когда природа овладевала им полностью, не оставляя в душе ни горечи, ни печали. Окружающий мир в такие минуты воспринимался Карамышевым с острой пронзительной силой.
Не замечая течения времени, он закончил один этюд и принялся за второй — изобразил теперь тихую заводь на той стороне реки, где терпеливо сидел какой-то малец с удочкой. Акварель была давним увлечением писателя Карамышева.
…Незаметно опустились прохладные сумерки, запылал красноватый закат, постепенно огнистость его выгорала, тускнела, становилась бледно-малиновой, сизой. Воздух замер и будто тяжелел. Напряженная тишина все обняла кругом.
* * *
В тот вечер Карамышев рано отужинал и залез на чердак, на котором вот уже вторую неделю, в любую погоду, спал на свежем душистом сене. Он сам его накосил у пруда, высушил и настелил. Что за воздух был здесь! Что за сон! Часа четыре покоя, и он поднимался раскованный, с ясными мыслями и жадным желанием работы. Нигде он прежде себя так не чувствовал, нигде так не спал.
Однако случались и такие ночи, когда Карамышев не мог сомкнуть глаз, перенасыщенный впечатлениями или утомленный тем, что провел за столом весь день напролет, подстегивая себя крепким чаем.
Вчера-то и был для него такой изнуряющий день. Работа не шла, он комкал бумагу, рвал, вновь принимался — лишь бы не дать себе воли расслабиться. Только к вечеру ему удалось прибавить к написанному какую-то малость. Видно, время настало отвлечься, переключиться на что-то другое. Этим «другим» нередко было увлечение акварелью. Скоротав тогда кое-как недолгую летнюю ночь, Карамышев по росе шел на окраину бора.
…Но сегодня опять почему-то ворочался долго на мягком сене, зажмуривал крепко глаза — напрасно. Душа находилась как бы в томительном ожидании чего-то. Грозы? Буреломного ветра? Обвального ливня, когда будет течь во все щели, сытно чавкать под водосточной трубой и хлюпать в траве у завалинки?
Было напряженно и тихо. На станции, неподалеку отсюда, лязгал, пыхтел маневровый. По шоссе, что тянулось параллельно железной дороге, привычным потоком бежали машины — в сторону города или в аэропорт… В открытый зев чердака лезла мягкая темнота. Кедры, обступившие усадьбу, были неразличимы в отдельности и сливались в сплошную черную массу.
Тревога, неожиданно поселившаяся в Карамышеве, наконец улеглась, уступив место спокойным и сладким думам…
* * *
Как уже было не раз, он начал тешить себя приятными размышлениями о том, что правильно сделал, сняв здесь, в Петушках, место у лесника Автонома Панфилыча Пшенкина. Летом тут просто чудесно и близко от города. Есть речка и пруд. Есть холмы и долины. Есть кедры! Огромная роща старых и молодых исполинов. И далее во все стороны сохранены кедрачи — целые промыслово-ореховые зоны…
И было бы вовсе прекрасно, думал Карамышев дальше, пожить в Петушках не только все лето, но и всю осень, а может, и зиму — до самой весны… Пожить бы вот так, без суеты, домоседно, поразведать побольше судеб людских со всем их счастьем-несчастьем, добром и злом, со всем тем простым и сложным, из чего складывается жизнь человеческая, чем полна она и значительна, чем пуста и безобразна.
Так думал писатель Карамышев, уже совсем успокоенный, готовый вот-вот погрузиться в приятный глубокий сон.
Но снова, как в полдень у речки, порывом качнуло деревья, громыхнуло где-то железным листом (должно быть, на сарае у лесника), кедры запарусили густыми вершинами — зародился их протестующий всеохватный ропот.
Забренчали, забарабанили струи — по траве, по ветвям, по крыше, начало лить без грома и молний, но с тугим, жестким ветром. Сухой до этого воздух на чердаке отсырел, в щель у печной трубы текла тонкой звенящей струйкой вода. Карамышев ожидал, что теперь так и будет всю ночь поливать, а то и весь завтрашний день, и кислая эта погода прибавит в душе тоски…
Однако и ветер, и дождь перестали часа через два. Карамышев подвинулся к чердачной двери и увидел чистый, умытый, осколочный свет звезд. Он так был захвачен их немым сиянием, что пораженно замер и долго лежал на спине, запрокинув лицо к небу. Так было возвышенно и хорошо! Спать не хотелось, да