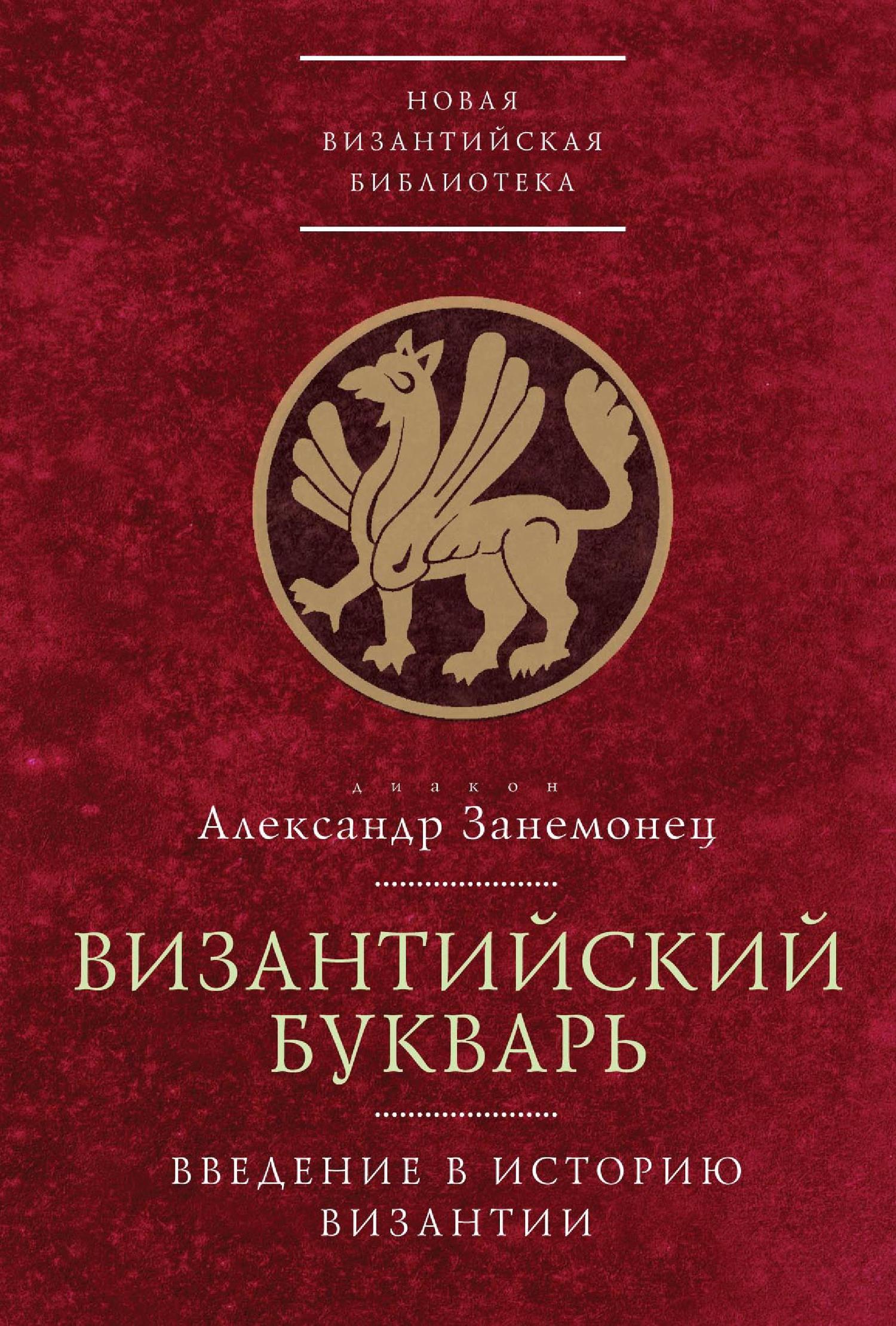Книга Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Цветаева у Парижа на совести. Несколько раз Адамович походя (иногда без повода, несправедливо или даже не к месту) ее задевает. Чего стоит одно “бальмон-то-цветаевское обличие”.
Мережковского Адамович хвалит за “постоянный, безмолвный упрек обыденщине и обывательщине”. За это скорее надо было бы хвалить именно Цветаеву (откинув, конечно, эпитет “безмолвный”, поэту, да еще ее качеств, не идущий).
Книга должна была бы содержать главу о Г. Иванове.
Музыка, музыка, музыка… Эпоху Ницше, эпоху Блока нельзя понять без этой музыки. Но строить на ней сейчас – все равно, что писать психологический роман с Аристотелем в руках. Для понимания Пушкина музыка дает мало (а если принимать этот “музыкальный” подход всерьез, то нельзя не признать его поэтом второго разряда). То же самое с Пастернаком. Вместо музыки можно было бы опять ввести несправедливо забытое слово поэзия, и все станет на место. Разве не ирония, что почти все эти адепты музыки метафизической “ничего не понимали”, когда дело доходило до музыки настоящей. Блок музыкальным слухом не обладал, Зинаида Гиппиус (как сообщает Адамович) не знала, не любила и не понимала музыки в прямом смысле. Даже Ницше не нашел ничего лучшего противопоставить Вагнеру, как “Кармен” Бизе, как будто не было Моцарта. Моцарт, кстати говоря, с точки зрения символистов был композитором чуть ли не третьестепенным. Не очевидно ли, что суть в чем-то другом и символы, метафоры не помогают.
Адамович много пишет о необходимости и возможности диалога с “той стороной”. Эмигрантов, естественно, тянуло к “той стороне”… А там не отвечали или бранились. Но замечали ли эмигранты то ценное, что до самого начала 30-х гг. появлялось на “той стороне”?
“Есть ли с кем поговорить?” – спрашивает Адамович. Почему было не “поговорить” с Заболоцким, когда он выпустил свои “Столбцы”? Ведь это был один из самых интересных поэтов, появившихся после революции. Пытались ли завязать “диалог” с поздним Мандельштамом?
Творчество лучших поэтов в современной России отмечено трагическими неудачами, как и на Западе (но иначе). Они были уже у Хлебникова. Только в отличие от Парижа, в России – “несвобода” и то полное одиночество, которого парижане не знали. Да одиночества хоть отбавляй даже у Багрицкого, даже у Маяковского, который “проблемой для эмиграции не был”. Итак, в отсутствии диалога нет ли вины и с “этой стороны”?
Не сумев завязать диалога с “той стороной”, эмиграция начала вести диалог сама с собой, со своим юным, дореволюционным я. В этой связи вспоминается статья Адамовича “Сумерки Блока” (“Новое русское слово”, 1952 г.), характерная реакция современника. А для несовременника Блок остается большим поэтом, нисколько не стареет и разочарований не вызывает. Его слабые стороны (как и у Лермонтова, как и у Некрасова) не побуждают несовременника низвергать его. “Вечное” в их поэзии оценивается несовременником без затруднений, несмотря на отсутствие духовного родства с “демократической интеллигенцией” или с символизмом. А современники Блока смешали поэта со своей молодостью и утрату последней приняли за наступление “сумерек” Блока.
Адамович упоминает о критиках-читателях, которые упрекают литературу в недостатке бодрости, целеустремленности. Он очень вежливо и тонко с ними спорит. Думается, что это напрасный труд. С людьми, пропустившими пятьдесят лет развития русской литературы, церемониться не следует. Но для этого нужны качества бойца, качества Маяковского (вот кого не хватает в эмиграции).
Нашлось немало возражений, а на самом деле – согласия больше. Но ведь сам Адамович мечтает о “споре страстном и запальчивом”» (Марков В. Заметки на полях // Опыты. 1956. 6. С. 62–64).
В. Маркову возразил В. Вейдле: «В том-то и беда, что никакой борьбы литературных поколений ни в России, ни в эмиграции не происходит. Когда Марков полемизирует, – с Г. В. Адамовичем, например, – он ищет опоры не в несуществующих литературных позициях своего поколения, а либо в своих личных взглядах, либо в литературных позициях одной из частей того поколения, к другой части которого принадлежит и сам Адамович» (Вейдле В. О спорном и бесспорном // Опыты. 1956. 7. С. 43).
Самым обстоятельным и наиболее скептическим был отзыв о книге давнего оппонента Адамовича Глеба Струве, который ради справедливости приводится целиком, несмотря на нескрываемую враждебность и ряд откровенно несправедливых выпадов: «Не так давно издательство имени Чехова выпустило книгу Г. В. Адамовича “Одиночество и свобода”. Книга эта имела вообще “хорошую прессу”. Это была, кажется, первая настоящая книга, целиком посвященная русской зарубежной эмигрантской литературе. А также – первый прижизненно изданный видным эмигрантским критиком сборник критических статей: до войны ни самому Адамовичу, ни В. Ф. Ходасевичу, ни А. Л. Бему, ни В. В. Вейдле – называю наиболее видных и влиятельных критиков, это относится и к другим – не удалось собрать в книгу хотя бы часть своих критических статей, хотя многие из них несомненно того заслуживали, и в нормальных условиях в России это давно было бы сделано. Только совсем недавно то же издательство имени Чехова выпустило посмертный сборник избранных критических статей Ходасевича, куда вошли, впрочем, и его литературные воспоминания.
Книга Адамовича составилась по большей части из ранее напечатанных, но часто значительно переработанных статей. Две из них носят общий характер: открывающая книгу статья “Одиночество и свобода” (в ней как бы задана в заглавии и тема самой книги, и главные темы эмигрантской литературы, как ее понимает Адамович) и замыкающая ее статья “Сомнения и надежды”. В промежутке даны критические характеристики пятнадцати эмигрантских писателей – в большинстве “старших” (Мережковского, Шмелева, Бунина, Алданова, Зинаиды Гиппиус, Ремизова, Бориса Зайцева, Тэффи, Куприна, Вячеслава Иванова и Льва Шестова – последним посвящен общий и как бы “сравнительный” этюд). Из молодых, находящихся в живых писателей отдельного этюда удостоился лишь Владимир Набоков-Сирин, которого, надо сказать, Адамович, из всех видных зарубежных критиков, всех дольше не замечал (причем в 1934 г., совершенно вразрез с фактами, писал: “О Сирине наша критика до сих пор ничего еще не сказала. Дело ограничилось лишь несколькими заметками “восклицательного характера”), и к которому – после того, как он все-таки “заметил” его – отношение его всегда было двойственным: смесью удивления и отталкивания. В последнем этюде в книге объединены