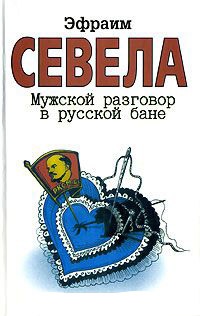Книга "Тойота-Королла" - Эфраим Севела
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Алдона обладала несомненной выдержкой. Или же не хотела мне показать своей слабости. Сняв плащ и повесив его в прихожей, прошла по комнатам, внимательно оглядев каждую, и ее лицо не выразило волнения. Лишь в той, где я спал и постель оставалась неубранной и смятой, она с грустью заметила:
— Когда-то в этой комнате было чисто.
— Почему именно в этой? — удивился я.
— И в других тоже. Но эта была моей. И кровать моя. Она оглянулась на меня:
— Можно?
Не поняв, о чем она спрашивает, я все же кивнул. И она принялась приводить в порядок постель. Расправила простыни, взбила подушки, аккуратно положила одеяло. Покончив с этим, спросила:
— Как в России принято? Гостям предлагают выпить? Или они сами берут?
Ох, прости, — спохватился я. — Конечно, конечна Что ты предпочитаешь?
— А что у вас есть?
Мое настроение сразу же улучшилось. Я понял, что я заполучил то, чего мне так недоставало. Юную, прелестную любовницу. Литовку.
Я забегал, засуетился. К счастью, в доме кроме водки нашлась бутылка хорошего грузинского вина «Хванчкара».
Алдона помогла мне накрыть стол. Безошибочно нашла скатерть, достала бокалы, тарелки, ножи и вилки. Она отлично помнила, где что лежит.
Она не умела пить. Но жадно припала к вину. Ей хотелось опьянеть, напиться, потерять контроль над собой. Чтоб облегчить ее задачу, я, словно по ошибке, плеснул ей водки в бокал с вином, надеясь этой смесью довести ее до нужной кондиции. Но мой неуклюжий маневр не остался незамеченным. Она отставила в сторону бокал и вообще больше к питью не притрагивалась.
Боже, до чего она была хороша! С раскрасневшимися от вина щеками, с сияющими серыми глазами и влажными, сочными губками, в которые так и тянуло впиться и не отпускать, пока мы оба не задохнемся.
Уж так повелось, такова глупая мужская логика. Когда мы добиваемся женщины, то несем черт знает какую околесицу, врем с три короба, обещаем золотые горы. Даже тогда, когда вся ситуация в нашу пользу и мы ясно видим, что желанны и отпора не будет. Но тем не менее продолжаем нести чушь и обещаем, обещаем, обещаем. Я уверен, что умные женщины с трудом сдерживают рвотные судороги в таких случаях.
Я, грешный, ничем не выделяюсь среди других мужчин, средних достоинств кобелей. И я стал пудрить бедной Алдоне мозги на всю катушку. Вспомнив, что получил от начальства разрешение съездить в Москву на праздники, спросил у сильно окосевшей девочки:
— А в Москве ты бывала?
Алдона заплетающимся языком, с трудом припоминая русские слова, объяснила мне, что нигде за пределами маленькой Литвы не бывала. И тогда я спросил:
— Хочешь съездить в Москву? Она недоверчиво рассмеялась.
— Нечего смеяться, — остановил я ее. — Я беру тебя с собой в Москву. Увидишь Красную площадь, Кремль, военный парад. Седьмого ноября — годовщина Октябрьской революции. А сегодня у нас какое число? Четвертое. Вот завтра, пятого ноября, мы и выедем с тобой в Москву. Московский поезд отправляется из Каунаса в два часа пополудни. Просьба быть на вокзале за полчаса до отхода поезда. Согласна?
Удивительней всего, что она мне поверила. Лишь одно ее немного омрачило. Что сказать матери? Как объяснить свое отсутствие в Каунасе несколько дней? Конечно, она ни в коем случае не проговорится, что едет в Москву. Да еще с незнакомым мужчиной. Да к тому же русским. Оккупантом. Ее запрут на ключ и будут охранять, как в тюрьме, чтоб и носа не высунула наружу. Придется придумать что-нибудь… А врать стыдно… грех… На это я, тоже порядком пьяный, ответил, что если цель благородна и прогрессивна, то все средства хороши для ее достижения.
Алдона развеселилась, носилась по квартире, то и дело подбегая ко мне и неуклюже чмокая меня то в щеку, то в лоб. Я решил, что пора действовать. Мы были в моей спальне, которая некогда была ее комнатой, и я, сжав Алдону в объятиях, повалился вместе с ней на кровать, только что приведенную ею в порядок. Она не сопротивлялась моим поцелуям, не отводила моих рук, когда я жадно шарил поверх платья по ее телу. Но стоило ей почувствовать мою горячую ладонь на своем голом бедре, и она рывком, проявив несомненную спортивную ловкость, сбросила меня с себя и села на кровати.
— Не троньте меня, — сказала она. — Я невинная девочка.
Я не усомнился в правдивости ее слов. И сразу же увял. Всякие дальнейшие поползновения были бессмысленны. Мне, при моем официальном положении в этом городе, только недоставало скандала на сексуальной почве. Того и гляди, выложишь на стол партийный билет. И тогда прощай газета, прощай карьера.
Уныние на моем лице вызвало чувство жалости у нее. Она подвинулась ко мне и погладила по голове, как обидевшегося ребенка. Я стряхнул ее руку и встал.
— Ладно, — сказал я тоном, каким подводят итоги. — Повеселились, и хватит. У меня полно дел, надо подготовиться к отъезду.
— Значит, я в Москву не еду? — спросила она, тоже вставая.
Мне не хотелось ее оглушать отказом, и скучным голосом, стараясь не глядеть ей в глаза, я сказал, что своего предложения не отменяю, и если она не раздумала, то почему же, вполне может ехать. При этом я был уверен, что она поняла мои слова правильно — как вежливый отказ.
Я помог ей надеть плащ. На пороге она обняла меня, поцеловала в губы и, не дав мне опомниться, убежала. А я выскочил на тротуар и долго смотрел ей вслед, на мелькавшую среди дубовых стволов красно-черную, в клеточку, накидку на ее плечах, колоколом развевавшуюся у колен.
На вокзал меня отвез Коля Глушенков — фоторепортер, обслуживавший в этом городе несколько корреспондентов центральных газет. Ко мне кроме служебных связей он питал еще личную привязанность. Это был уже немолодой, на два десятка лет старше меня, одинокий человек. Врачи у него удалили половину кишечника, и ему строго-настрого запрещалось пить, предписывалась диета. Но он ел все подряд и пил, когда не работал, как заправский пьяница, напиваясь до чертей, но не теряя разума.
Ко мне он привязался, как старая нянька, и ходил за мной по пятам, если я его не отсылал, как приблудный пес. Где-то на Севере у него были жена и взрослые дети, но связь между ними давно порвалась. Ни писем, ни телефонных звонков. Это был опустившийся человек. В его большом, губастом рту не хватало половины зубов, а он и не подумывал обратиться к дантисту и, когда смеялся, пугал окружающих черными провалами между одинокими зубами — желтыми и длинными, как у коня.
Я называл его фамильярно Колей, а он меня всегда по имени-отчеству и только на «вы». Со мной он ездил за пределы Каунаса, в литовские хутора, куда ступив без охраны, можно было легко расстаться с жизнью, и лучшего стража, чем он, я не мог себе пожелать.
Если мы оставались ночевать на хуторе и перепившаяся охрана засыпала мертвецким сном на полу возле кровати, где возлежал я, охраняемый ими объект, Коля с пистолетом в руке и гранатой и кармане, трезвый и чуткий, как волк в архангельских лесах, откуда он был родом, ходил всю ночь вокруг дома, независимо от погоды — и в осеннюю слякоть, и в трескучие морозы зимой.