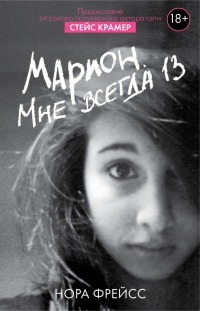Книга Я исповедуюсь - Жауме Кабре
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Никогда еще Бернат не видел своего друга в таком состоянии. Его потрясло, что сердечная рана может быть такой глубокой. Он хотел помочь, хоть и не разбирался в сердечных недугах, и сказал: смотри, Адриа.
– Ну?
– Ну, если она взяла и сбежала, ничего не объяснив…
– То что?
– А то, что она просто…
– Только не вздумай оскорблять ее. Ладно?
– Хорошо, как хочешь. – Он огляделся в кабинете, разводя руками. – Но разве ты не видишь, как она все бросила? Не оставила даже клочка бумаги со словами – Адриа, дорогой, я встретила другого парня, покрасивее тебя, – а? Разве ты не понимаешь, что так не делается?
– Покрасивее меня и поумнее, да, я уже тоже об этом подумал.
– Покрасивее тебя толпами ходят, а вот поумнее…
Они замолчали. Время от времени Адриа встряхивал головой в знак протеста, в знак полного непонимания.
– Пойдем к ее родителям и скажем: господа Волтес-Эпштейны, что тут, в конце концов, происходит? Что вы от меня скрываете? Где Сага и так далее. Как тебе?
Мы сидели вдвоем в отцовском кабинете, который теперь был моим. Адриа встал и подошел к стене, на которой годы спустя будет висеть твой автопортрет. Он прислонился к ней, словно взывая к будущему, и отрицательно покачал головой: идея Берната была не слишком хороша.
– Хочешь, я сыграю для тебя чакону? – предложил Бернат.
– Да. Сыграй на Виал.
Бернат играл очень хорошо. Несмотря на боль и тоску, Адриа внимательно слушал версию своего друга и пришел к выводу, что пьеса сыграна правильно, но иногда у Берната возникает одна проблема: он не проникает в душу вещей. Что-то мешает ему быть убедительным. А я раздавлен горем, но не могу перестать анализировать эстетические объекты.
– Тебе лучше? – спросил он, закончив играть.
– Да.
– Понравилось?
– Нет.
Я должен был промолчать, знаю. Но не смог. В этом я в мать.
– Что значит «нет»? – У него даже голос изменился, стал резче, напряженнее, настороженнее.
– Не важно, оставь.
– Нет, я хочу знать.
– Хорошо, согласен.
Лола Маленькая хозяйничала в глубине квартиры. Мать была в магазине. Адриа без сил упал на диван. Бернат перед ним – со скрипкой в руке, сам как натянутая струна – ждал вердикта, и Адриа сказал: ну‑у‑у, технически это совершенно или почти совершенно, но ты не проникаешь в душу вещей; мне кажется, ты боишься истины.
– Ты не в себе. Чтó есть истина?
И Иисус вместо ответа промолчал, а Пилат в беспокойстве вышел. Но поскольку я не знаю, чтó есть истина, мне пришлось ответить:
– Я не знаю. Я узнаю́ ее, когда слышу. А в тебе я ее не узнаю. Я узнаю́ ее в музыке и в поэзии. И в прозе. И в живописи. Но встречаю ее лишь изредка.
– Ссучья зависть!
– Да. Признаю: я завидую тому, что ты можешь это сыграть.
– Ну да. Давай исправляйся.
– Но я не завидую тому, как ты это играешь.
– Ха, да ты просто сочишься ядом.
– Твоя задача – суметь уловить и выразить истину.
– Вот как.
– По крайней мере, тебе есть к чему стремиться. Мне – нет.
В общем, дружеский вечер, во время которого один друг пытался утешить в горе другого, закончился глухой ссорой из-за эстетической истины и – да пошел ты куда подальше, понял, да пошел ты. Теперь я понимаю, почему сбежала Сага Волтес-Эпштейн. И Бернат вышел, хлопнув дверью. Через несколько секунд Лола Маленькая заглянула в кабинет и спросила: что случилось?
– Да ничего, просто Бернат спешит, ты его знаешь.
Лола Маленькая посмотрела на Адриа, который внимательно изучал скрипку, чтобы не сидеть с остановившимся от горя взглядом. Лола Маленькая хотела что-то сказать, но сдержалась. Тогда Адриа заметил, что она еще стоит в дверях, словно собираясь заговорить.
– Что? – спросил он, хотя по лицу его было видно, что он не в настроении разговаривать.
– Ничего. Знаешь, пойду готовить ужин: твоя мать должна скоро прийти.
Она вышла, а я принялся стирать со струн канифоль, полностью погрузившись в свою печаль.
23
– Сын, да ты не в себе.
Мать села в кресло, в котором обычно пила кофе. Адриа начал разговор хуже не придумаешь. Иногда я думаю, почему меня чаще не посылали куда подальше. Потому что вместо того, чтобы сказать ей: мама, я решил продолжить образование в Тюбингене, а она спросила бы: в Германии? А здесь тебе не нравится, сын? – вместо этого я начал с того, что сказал: мама, я должен тебе кое-что сказать.
– Что?
Она удивилась и села в кресло, в котором обычно пила кофе, – удивилась потому, что мы давно уже жили под одной крышей, не испытывая необходимости разговаривать друг с другом и уж тем более необходимости говорить: мама, я должен тебе кое-что сказать.
– Я недавно говорил с Даниэлой Амато.
– С кем ты говорил?
– Со своей единокровной сестрой.
Мать вскочила как ужаленная. Я уже настроил ее против себя, и не важно, что собирался сказать дальше. Осел, просто осел, ничего не умеешь сделать.
– У тебя нет никаких единокровных сестер.
– То, что вы скрывали ее от меня, не означает, что ее нет. Даниэла Амато, из Рима. У меня есть ее адрес и телефон.
– Плетешь интриги?
– Почему? С чего бы?
– Не верь этой пройдохе.
– Она сказала, что хочет быть совладелицей магазина.
– Ты знаешь, что она украла у тебя усадьбу Казик?
– Если я правильно понимаю, усадьба досталась ей от отца, она ничего не украла.
– Она как вампир. Хочет присвоить себе магазин.
– Нет. Она хочет быть совладелицей.
– И как ты думаешь, зачем ей это нужно?
– Я не знаю. Потому что он принадлежал отцу?
– А сейчас он мой, и мой ответ на все притязания этой накрашенной суки – нет.
Да уж, хорошо мы начали. Она не сказала «ссуки», потому что в данном случае это было существительное, а не прилагательное, как в прошлый раз, когда она ругалась. Мне понравилось языковое чутье матери. Она молча мерила шагами комнату, размышляя, стоит ли продолжать ругаться или нет. И решила, что нет:
– Это все, что ты хотел мне сказать?
– Нет. Я еще хотел сказать, что уезжаю из дома.
Мать снова села в кресло, в котором обычно пила кофе:
– Сын, да ты не в себе.
Она помолчала. Руки ее дрожали.