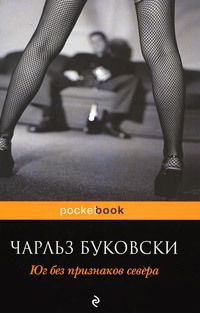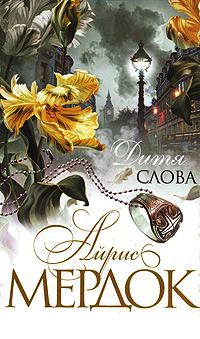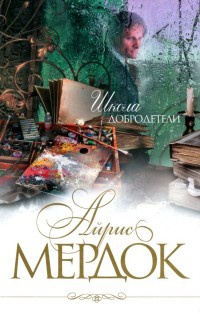Книга Генри и Катон - Айрис Мердок
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
По-прежнему пел жаворонок, невидимая точка в сияющей синеве. Заполняя небо своей песней, временами замирая в экстазе и продолжая вновь, и вновь, и вновь.
— Ведь ты меня любишь, Стефи?
— Да, да. Только это похоже на сон, слишком хорошо, чтобы быть правдой, поверить не могу.
— На этом сказка кончается, Стефани, и начинается другая.
— И они жили долго и счастливо, такая?
— Не знаю. Сомневаюсь. Но они жили вместе, друг другу доверяли, помогали и говорили правду. Так, Стефи?
— Да.
— Послушай, как поет жаворонок.
―
— Подай ему поесть и отправляйся спать.
Катон взглянул на Колетту, такую неловкую, такую изящную, которая стояла у плиты в своем старом зеленом комбинезоне в пятнах грязи после работы в саду, волосы сзади перехвачены резинкой, лицо горит и блестит, как у мальчишки. Потом посмотрел на отца, который хмурился, силясь не расплыться в улыбке, и скреб заскорузлыми руками, торчащими из кожаных обшлагов, слегка горбатые доски деревянного кухонного стола. Он видел две пары глаз, сияющих любовью и радостью. И говорил себе, как ему повезло, что он любим такими прекрасными людьми, и как мало они могут сейчас сделать для него, несмотря на все свое желание. Это был первый день жизни в новом мире, в котором он должен переделать себя и непременно искать счастье. Каким он чувствует себя усохшим, тонким, как игла, после отрешения, пережитого позора и потери всего, что составляло его существо. Он лишился власти, сана, положения и до того недостойно сожалеет об этом последнем, будто именно это важно.
— Хорошо. Теперь перестань его тискать, Колетта. И отправляйся.
— Но, папочка… Ладно. Покойной ночи, дорогой, дорогой Катон.
Они жалеют меня, думал Катон. Любовь делает бескорыстной их жалость. Другие будут сочувствовать не столь бескорыстно, и он упадет в их глазах. В конце концов он привыкнет быть никем, кроме как геем в вельветовом пиджаке. Он принялся за тушеное мясо, которое разогрела для него Колетта. Он поздно явился домой.
— Так ты уже получил работу? Это замечательно. Да еще в Лидсе, неплохой город.
— Это лишь временно.
— Ты можешь пойти в тамошний университет, я знаю пару человек…
— Потребуется время, чтобы вернуться к учебе… в последнее время я не занимался.
— Жаль, что потерял столько времени. Раньше ты, по крайней мере, учился. А последние годы ушли коту под хвост.
— Да…
— Можешь остаться жить у нас и заниматься. Все твои книги на старом месте. Как прежде, оба будем работать.
— Да…
— Я полагал, что в конце концов ты образумишься. Меня поражает, как люди могут верить во всю эту чушь. Ты должен был чувствовать, что совершил ошибку. Теперь, когда все это позади, тебе легче?
— Да…
— Удивляет, что даже разумные люди способны заблуждаться. Ты не один такой. Боже! Я видеть тебя не мог в твоей черной хламиде. Теперь ты снова выглядишь как человек.
— Да, папа…
— Ну, слава богу, ты покончил с этим, и даже не слишком поздно. Еще можно сделать университетскую карьеру.
— Сомневаюсь…
— В наше-то время, в нашем-то веке, нет, это выше моего понимания… наверное, дело в какой-то эстетической привлекательности религии. Я прав?
— Возможно, отчасти…
— Я могу это понять. Религия всегда была искусством обольщения. К тому же участие в грандиозном спектакле. Это похоже на вступление в коммунистическую партию, интернациональное братство, история на твоей стороне и так далее. Это было модно во времена моей молодости.
— Только ты так и не вступил.
— Даже не тянуло. Я их сразу распознал. Я всегда был отчаянным индивидуалистом, не выносил партийных боссов. Некоторым они нравятся, в подчинении есть безопасность, даже нечто захватывающее. Но не для меня. Я всегда был слишком скептиком. Всегда держался того, что мог понять. Правда — очень конкретная вещь, решают детали, что ты можешь объяснить и знать точно. Я видел опасные сигналы. Как только начинаешь гоняться за чем-то огромным и неясным, вляпываешься в ложь, ложь, проникающую в душу, в то, чего не можешь понять до конца и до конца избыть и что принимаешь, потому что любишь это огромное целое. В политическом и нравственном отношении это путь в ад. Любая метафизика есть ложь, все огромное — ложь. Неизбежно.
— Возможно, ты прав, — согласился Катон.
— Ты называл меня филистером…
— О боже! Неужели? Прости…
— Да, ты говорил, я духовный филистер.
— Я лишь имел в виду…
— Да ладно, знаю я, что ты имел в виду. Я не верю во все те мифы и легенды и считаю представление о загробной жизни самой пагубной для нравственности идеей из когда-либо придуманных, но я верю в добропорядочную жизнь, в стремление быть порядочным человеком и говорить правду… считаю, что это главное: говорить правду, всегда стараться искать истину, не терпеть никакой лжи или полуправды — именно полуправда убивает дух. Видишь, не такой уж я филистер, как ты думаешь.
— Очень сожалею, я…
— Твоя мать была святой человек. В детские годы мы с ней были «друзьями»[59], но религия совершенно естественно ушла из нашей жизни. Тем не менее они, те старые квакеры, разбирались кое в чем, были в них порядочность и честность. «Внутренний Свет»[60]— это просто сама правда. Я сразу это увидел. И извлек из всего этого то, что имело для меня смысл. Не их ужасную теологию, не ту тошнотворную колоритную атрибутику, которая столь привлекательна для твоего эстетического чувства, а простую идею жить, зарабатывая свой хлеб насущный, помогая людям, борясь против лжи и тирании. Вот и все, Катон, и этого достаточно.
— Да…
— Знаешь, я никогда серьезно не говорил с тобой на эту тему… никогда не говорил, что я думал и чувствовал относительно…
— Пару раз высказался очень жестко.
— Далеко не так, как хотелось. Я видел, что кричать на тебя бесполезно. Терпеть не могу эту проклятую религию. В ней есть дьявольский соблазн. Везде, где она расцветает, она убивает искренность, мысль и свободу.
— Пап, я валюсь с ног, пойду спать.
— Ты еще не окончательно излечился от любви к этой заразной чуши.
— Это не чушь.
— Прекрасно, так возвращайся к ней, я тебя не держу. Я думал, ты все решил раз и навсегда.
— Да, решил. Я больше не верю в Бога, и это окончательно. Только, пожалуйста, не злись на меня и не говори со мной таким сердитым тоном. Я рад быть дома и рад, что ты рад.