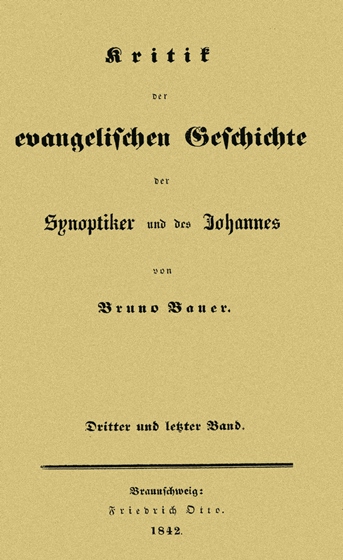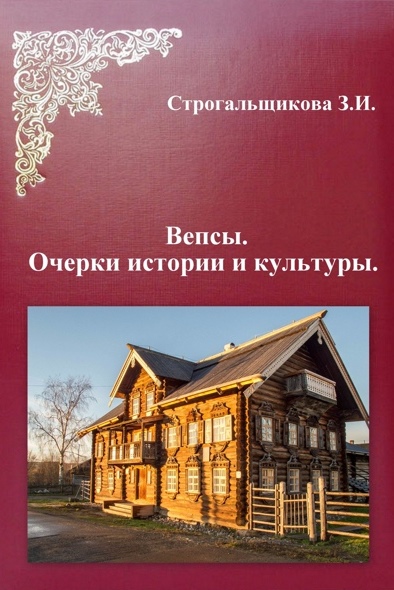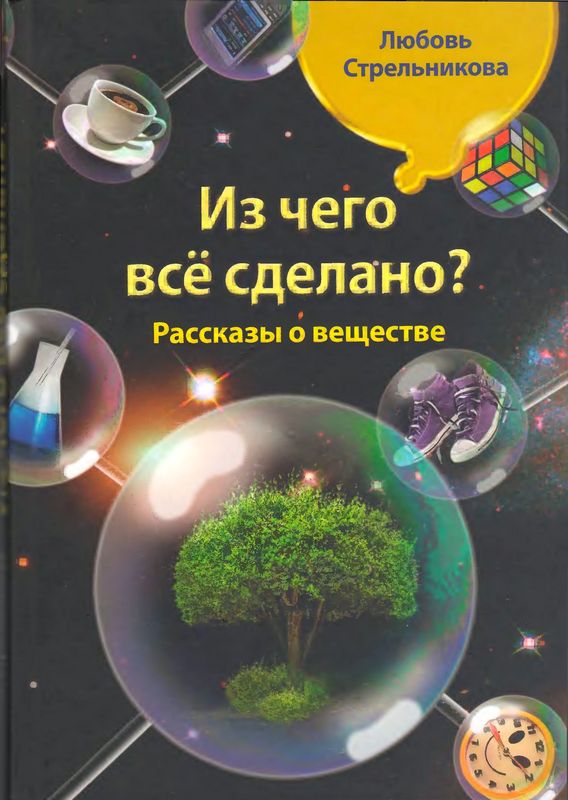Книга Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории - Освальд Шпенглер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
8
Все искусство – это язык выражения[146]. Причем в наиболее древних приступах к нему, которые заходят глубоко в животный мир, это язык подвижного существа, обращенный лишь к самому себе. Нет и мысли о свидетелях, хотя в их отсутствие потребность к выражению умолкла бы сама собой. Еще на весьма поздних этапах зачастую вместо художников и зрителей существует лишь толпа творцов искусства. Все танцуют, изображают и поют, и «хор» как совокупность присутствующих так никогда и не исчезал вполне из истории искусства. Только высшее искусство – это исключительно «искусство перед свидетелями», прежде всего, как заметил однажды Ницше, перед высшим свидетелем – Богом[147]{73}.
Это выражение оказывается либо орнаментом, либо подражанием. Таковы высшие возможности, противоположность которых едва ощущается вначале. Причем подражание, безусловно, более изначально, как стоящее ближе к расе. Подражание исходит из физиономически понятого «ты», невольно заманиваемого к совместному резонированию в жизненном такте; орнамент же свидетельствует о сознающем собственную своеобычность «я». Первое широко распространено в животном мире, второй же принадлежит едва ли не исключительно одному только человеку.
Подражание возникает из тайного ритма всего космического. Бодрствующему существу единое представляется разбросанным и простертым: «здесь» и «там», собственное и чужое нечто; микрокосм по отношению к макрокосму как полюсы чувственной жизни, и эта раздвоенность оказывается перекрытой ритмом подражания. Всякая религия – это желание бодрствующей души переправиться к силам окружающего мира, и исключительно того же желает подражание, всецело религиозное в наиболее торжественные свои мгновения. Ибо это одна и та же внутренняя подвижность, в которой тело и душа здесь и окружающий мир там сливаются и становятся единством. Подобно тому как птица раскачивается в бурю и пловец отдается ласкающему биению волн, как при звуках марша в члены тела вливается необоримый такт, точно такое же заразительное воздействие оказывает и копирование чужой мимики и движений, где великими мастерами оказываются именно дети. Это может дойти до «уносящего» воздействия совместных песнопений, маршевых движений и танцев, которые создают из многих разнящихся единиц единство ощущения и выражения, единое «мы». Но и «удачный» портрет человека или пейзаж возникают из прочувствованного созвучия рисующего движения с потаенными колебаниями и движениями того живого, что нам противостоит. Это физиономический такт, который становится действенным, который предполагает знатока, обнажающего за поверхностной игрой идею, душу чужого. В определенные мгновения самозабвения все мы являемся знатоками такого рода, и тогда – когда мы с незаметным ритмом следуем музыке или мимике – перед нами внезапно разверзаются тайны зияющих глубин. Всякое подражание желает обмануть, а «обман» происходит от «обмена». Это перенесение себя в чужое «оно», подмена места и сущности, в соответствии с которым один живет теперь в другом, представляя или отражая его, пробуждает полноту чувства созвучия, которое восходит от молчаливого самозабвения до неудержимейшего смеха, доходя до последних оснований эротического элемента, который невозможно отделить от творческой силы. Так возникают народные танцы кружения – в качестве подражания любовному глухариному ухаживанию возник баварский шуплаттлер{74}; однако совершенно то же самое имеет в виду и Вазари, когда он хвалит Чимабуэ и Джотто, поскольку они первыми вновь взялись подражать «природе»{75}, а именно той самой природе ранних людей, про которую Майстер Экхарт сказал: «Бог истекает во всю тварь, и потому все созданное есть Бог»{76}. То, что мы наблюдаем как движение в этом окружающем мире и тем самым ощущаем в его внутреннем значении, мы воспроизводим через движение. Поэтому всякое подражание является игрой на публику в самом широком значении этого слова. Мы играем на публику через движение кисти или резца, через голосовую партию в песне, через тон рассказчика, стих, изображение, танец. Однако то, что мы, видя и слыша, переживаем, – это есть неизменно чужая душа, с которой мы воссоединяемся. Лишь разобьясненное и обездушенное искусство мировых столиц переходит к натурализму в современном значении: подражание сиюминутной привлекательности, научно доказываемому достоянию чувственных признаков.
От подражания четко отделяется орнамент, который не следует течению жизни, но жестко ему противостоит. Вместо физиономических черт, подсмотренных у чужого существования, он воспроизводит установленные мотивы, напечатленные на нем символы. Здесь желательно не обмануть, но заклясть. «Я» перевешивает «ты». Подражание – это лишь говорение, чьи средства рождены мгновением и больше не повторяются; орнаментика же пользуется отделенным от говорения языком, сокровищницей форм, обладающей длительностью и избавленной от произвола всякой единичной личности[148].
Подражать можно лишь живому, и лишь его можно воспроизводить, причем в движениях, через которые оно открывается чувствам художников и зрителей. В силу этого подражание принадлежит времени и направлению; все эти танцы, рисунки, представления, отображения для глаза и уха необратимо направлены, и поэтому высшие возможности подражания заключаются в воспроизведении судьбы, будь то в звуках, стихах, в портрете или разыгранной сцене[149]. Напротив того, орнамент – некое изъятое из времени, чистое, устойчивое, упорное протяжение. В то время как подражание выражает нечто постольку, поскольку оно реализуется, орнамент способен на это, лишь когда он, уже готовый, предстоит чувствам. Это есть само сущее, при полном игнорировании его возникновения. Всякое подражание имеет начало и конец, у орнамента же есть только длительность. По этой причине воспроизведена может быть лишь единичная судьба, как, например, Антигоны или Дездемоны. Посредством же орнамента, символа можно обозначить лишь идею судьбы вообще, например античную – через дорическую колонну. Подражание предполагает талант, орнамент же – сверх того еще и выучиваемое знание.
Существуют грамматика и синтаксис языка форм всех строгих искусств – со своими правилами и законами, с внутренней логикой и традицией. Это верно не только применительно к ложам строителей дорических храмов и готических соборов,