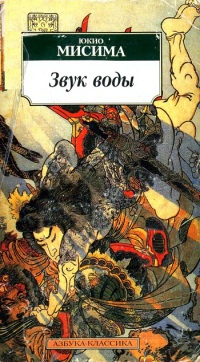Книга Дом Кёко - Юкио Мисима
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Какая яркая. Прямо цвета крови.
Осаму не ответил. Большие тёмно-зелёные солнцезащитные очки скрывали его лицо.
Солнечные лучи через окно такси нагревали края потерявших упругость неудобных сидений. Мать беспокоилась, что испортит причёску, и, подняв стекло, обмахивалась веером жутко кричащего цвета.
Молчаливый Осаму пытался найти какой-нибудь повод заговорить, и тут она упомянула Киёми:
— Само собой, ты молодец, но и ей я очень благодарна. Непростое положение, конечно. И дело не в деньгах, я просто рада, что ты ей нравишься.
Осаму, скрестив руки в ярких рукавах, молчал. Мать испугалась: вдруг сыну надоела Киёми и такие разговоры его сердят. Тревога вызвала к жизни дурные предчувствия: злоба брошенной Киёми, новое требование денег, более жестокие, чем прежде, мучения. Чёрной тучей накрыло опасение, что разорванную расписку и уничтоженную закладную можно восстановить.
Матери не хватило духу сказать о своих страхах, и она осторожно, поучительным тоном начала прощупывать почву:
— Может, это и не по тебе, но нужно её ценить. Пусть внешность у неё не очень, так и ситуация другая, не как с обычными женщинами.
Осаму вытер капли пота под носом и наконец ответил:
— Понятно. Я пойду с ней до самого конца.
Услышав это, мать от счастья чуть не разрыдалась. После запугивания спокойная жизнь была для неё драгоценным даром.
— Когда ты снимешь очки? Или собираешься сидеть так в театре? — весело спросила она. Ей нравилось своё бессмысленное, сугубо материнское вмешательство.
«Вилла морского бога» оказалась скучной, а вот пьеса «Кто наследник», с большим количеством реквизита, очень интересной. Последней шла «Мадам Баттерфляй», и мать всплакнула, сочувствуя всей душой страданиям Яэко — Баттерфляй, — напрасно ждущей бессердечного мужа. Но муж считал её верность и преданность заурядными и глупыми.
Спектакль закончился в шесть, и мать предложила сходить в тот шикарный ресторан, где в прежние, хорошие времена они как-то ужинали вдвоём. Ведь это было счастливое воспоминание, а сейчас ещё счастливее.
Тем не менее роскошный ужин не доставил того удовольствия, которого ожидала мать. «Последнее время он ведёт себя странно», — думала она, глядя, как Осаму небрежно орудует ножом и вилкой по ту сторону застеленного белой скатертью стола. Внезапно нахлынуло ощущение, что сын несчастен. «Сколько ещё этот ребёнок будет вызывать у меня мысли о бесконечно мрачном будущем?»
Осаму жизнь матери виделась в другой, фантастической реальности. Здесь же она была глиняной фигуркой в роль матери, её слова, её неловкие движения напоминали робота. Расчётливость, привычки, пристрастия, избитые выражения, банальная материнская любовь — они просто захватили тело матери и треплют языком. Осаму сейчас запретил себе любить мать. Ему то и дело чудилось, будто он попал на непостижимую для неё территорию. Если эта заурядная мать попытается понять мир, в котором живут Осаму и Киёми, он окажется безобразным.
«Мы просто совершим самоубийство влюблённых чуть иначе. И не нужно, чтобы кто-то понимал, какое наслаждение мы испытали. А лето скоро кончится, — думал Осаму, глядя на уличные фонари в летних сумерках. — Мёртвому мне уже не увидеть вечерний неоновый свет».
Но главное, что лето не ушло. Жаркий воздух окутывал горячим паром шею, нежный вечерний ветерок овевал кожу — это лучше всего отвечало его мыслям о смерти. Казалось, пройдёт это время года, и сами собой исчезнут страшные мысли, гнездящиеся в его сердце. Когда Осаму в гавайской рубашке шёл под палящим солнцем, пот щипал многочисленные свежие ранки. Как эта боль бодрила! Она, словно канат, связывала его внутренний мир с внешним. Этот канат перетягивал внешний мир в театр грёз.
Взгляды проходящих мимо девушек не достигали его тайных ранок. Накопившись, раны вышвыривали его, как падающую звезду, за границы общества. «Но я ещё не тень. Нет, не тень. Израненное, испытывающее боль, постепенно уничтожаемое тело». Скоро он весь покроется ранами. Прежде чем умереть вместе с Киёми, он разок проведёт ночь со здешней девушкой, выйдет к ней обнажённым. Девушка, наверное, в ужасе закроет глаза.
Осаму вспомнил, как в какой-то дешёвой забегаловке длинноволосые парни долго и нудно обсуждали свои душевные страдания. Осаму презирал такие компании. Если показать им, выставлявшим напоказ свои сердечные раны, следы на его теле, они наверняка лишатся дара речи. Они просто сброд и не замечают, что на самом деле не существуют, не знают, что душа есть отражение тени.
С летом всё закончится. Кровь, сияние солнца, гниение, жужжание мух — это набор декораций для смерти. Это — музыка, которая плывёт, огибая мёртвое тело, выброшенное летом средь бела дня, как увядший букет, на безмолвную широкую улицу. Осенью никто и не подумает слушать такую музыку.
Мир был приготовлен для него. Белоснежная скатерть… Осаму сжал край белой накрахмаленной скатерти. Даже странно, что её не окрасила его кровь, бегущая по венам.
— О чём ты думаешь? Последнее время всё молчишь. И не ешь, как когда-то, — всё-таки спросила обеспокоенная мать.
— Не о чем тебе волноваться, — ответил нежный сын. — Летом все такие.
И всё же Осаму не мог побороть соблазн открыть кому-нибудь тайну своего наслаждения. Поэтому, проводив мать, он пошёл к Кёко.
В ярко освещённом доме Кёко собралось много незнакомых гостей. Осаму встретили приветливо, но, слоняясь среди чужаков, он никак не мог улучить момент и поговорить с Кёко наедине. Случай так и не представился.
Всё это время Осаму с восторгом размышлял о смерти. Удалившись от шумных бесед, он прислонился к секретеру в углу комнаты и, выставив левое плечо, чуть закатал рукав алой рубашки. Там остался давний тёмно-пурпурный след. Он легонько поцеловал зажившую рану мокрыми от вина губами.
На веранде тоже толпились гости. Кёко в сиреневом платье ходила из комнаты на веранду и обратно. Встретившись с Осаму глазами, она улыбнулась и отправилась дальше по своему маршруту. Взгляд у неё был скучающий, и Осаму поразило, что она, похоже, охотно с этой скукой мирилась. Прежняя Кёко не была такой.
Некоторые роскошно одетые немолодые женщины, которым представили Осаму, заговаривали с красивым юношей в алой, непривычно яркой для этих вечеров рубашке. Он отвечал невпопад, они считали его глупым и удалялись.
Кёко чему-то подчинилась. Здесь не было ни Сюнкити, ни Нацуо, ни Хироко, ни Тамико. Вместо них — претенциозные светские беседы, которые Кёко раньше презирала. Пришло даже несколько иностранцев.
Рядом с Осаму болтала кучка напыщенных умников: «Ах, я люблю Бартока! Ах, я люблю Сезара Франка!» Дама, вернувшаяся недавно из Парижа, восторгалась, что в послевоенную Францию вновь проникли мистические идеи Востока. Мужчина с помятым лицом повесы хвастался, что открыл новое квантовое