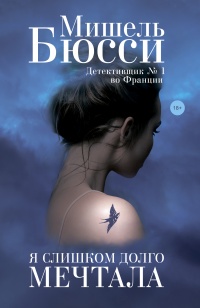Книга Севастопология - Татьяна Хофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Наш город изнежен, заметьте, мои героини. В продолжение всех войн длится эта жалкая оборона, почти столь же долгая, как беременность, а потом она падает, с почестями, полная невредимых пострадавших. Уже, кажется, давно отстрадали, но нет, дело обстоит так, будто осада ещё видима – как досада быть забытой невидимкой. Вдруг в этом городе, с вашего разрешения, ровное возрождение с проводами для праздничной иллюминации. Провода разбегаются лучами как трубопроводы. Если в Бельгии прокладываются подземные трубы для пива, то Москва давно проложила тайный туннель в Крым для закачки мифа. От историков железной дороги это ускользнуло. Увы, историю тоже можно утаить, сохранить и родить.
Во всех остальных местах, конечно, потерпишь провал, хотя был себе на уме, но не страшно. Нам успешно вбили эту обречённую на неудачу любовь к пространству – потерпело поражение и это, разве что мы транспортируем её на планету нашего мира представлений, вместо того, чтобы парализованно наблюдать, как желтеет последний остаток неустанно спокойного летнего детства. Наш город, священная корова, чреватая историей, что из него выйдет? – Чего только он не выдержал. Тогда и мы выдержим многое и много битв с мельницами, независимо от местонахождения. Смотрите же, эти сильные крылья, что вращаются на ветру! Турки, англичане, французы и немцы и кто там ещё, кто знает, когда и кем закончится собирание.
Полуукраинским русским из Москвы. Небесные глаза, пшенично-русые волосы, симпатии падают то на чёрную землю, то на Чёрное море. Он похож на мою лучшую подругу в Берлине, а через двадцать лет, пожалуй, будет похож на Хрущёва. Он ещё никогда не был нигде западнее Белоруссии. Он подарит мне назад мой Крым? По крайней мере, Кострому, Можайск, Бородино, Полоцк, Ростов-на-Дону Коровье, Пахтино и Псков он послал, и меня туда же – чудесные фото с пространными объяснениями по архитектуре и истории, так что здесь искусство стоит в центре жизни, в простой жизни человека, о котором мои друзья спросили бы меня, из какого русского романа он родом.
Он возникает сам собой в аэропорту, в отглаженной рубашке, с горячей головой и обезоруживающим рецептом из приличия, плана путешествия и шуток. По дороге в город он смахивает слезу растроганности. Неделю спустя в поезде на Домодедово у него идёт носом кровь. Он говорит, что у нас нет ничего общего. Логично, жёстко, неопровержимо. Это его не остановило перед тем, чтобы понести меня на руках, когда дорога к монастырю в босоножках стала непроходимой.
Я смотрю на всё, что он с трепетом показывает, и вижу нечто, чего он не хотел бы видеть: он тоже постоянно работает над своей идентичностью. Со времён коллективного переходного возраста 90-х и тех времён, которые мы разделили бы, останься я «там». Он укрепляет её, гордо претендуя на древне-русские места, и дышит их genius loci. Как бы сильно ни привлекала его духовность и эстетика священной истории, религию он отвергает. Он лазит по остовам монастырей, служивших нацистам для тренировки по стрельбе, а десять лет спустя ставших здравницами. Остатками фресок он напитывает свой личный опыт за МКАДом капитализма – фрагмент за фрагментом, уголок за уголком.
Пока православная церковь и государственные музеи спорят между собой, кто должен реставрировать столь чуждые и столь родные ареалы монастырей, он входит со своим намётанным глазом и взведённой камерой в церковные нефы, искренне защищая свой атеизм и вылетая вон, как только священник пытается наставить его на истинный путь, – вон в своё как пространственное, так и временное кочевье. Москвичи спрашивают меня, где я откопала такой советский экземпляр моего возраста, он давно уже стал раритетом в нашем поколении.
Моя машина времени ведёт меня попутно железнодорожной ветке, которой я, должно быть, уезжала из Москвы в Берлин. «Видите, ваш поезд с родины проезжал мимо Бородина». Он фотографирует меня на провинциальном вокзале, пронзительно уводя меня в прошлое. Мотив при нажатии кнопки: устало улыбающаяся туристка, прошедшая поле битвы с танками и приручёнными журавлями, у красной электрички в мужских носках на натёртых ногах, позади Наполеон и Вторая мировая, поглядывает на мирное закатное солнце.
Мы вдумчиво читаем Войну и мир Толстого, прежде чем разругаться после Бородина. Я вижу, он смотрит на предвзятость, которая до сих пор встречалась мне лишь как школьный материал и в тетрадке интерпретаций к драме идей Лессинга Натан Мудрый, как на историческую правду. Я вижу, как вспыхивает проекционная моторика, и прилежно тушу её, когда слышу: «Но что общего у всего этого с моим отношением к вам?»
Меня очаровывает его пост-волгодонский проект. Он родом из южно-русского города, который вырос из земли – или, пожалуй, из Волги – как советский промышленный проект. Маленький город на водохранилище, в котором не хранится почти никакой истории. Теперь мой спутник пытается наполнить себя огромной досоветской историей. Он видит её сохранённой в его Центральной Европе, «центральной зоне», как он говорит, – в радиусе ночной поездки на поезде от Москвы. Где-то там и «его» деревня, которую он заново отстраивает, с палисадником перед избой. Он не желает слышать, что ландшафт из окна поезда похож на Бранденбург, Мекленбург-Померанию или Польшу.
Я пишу ему: мои родители и я подаём заявление на гражданство, мы (мы?) хотим узаконить то, что мы, крымчане, чувствовали, чувствуем и будем чувствовать себя русскими, аминь. Он этого не одобряет. Я должна оставаться для него Западом, а он для меня – Востоком, нам не надо двигаться с места. Ему требуется различие, чтобы чувствовать свою историю, а мне – симбиоз, чтобы следовать моей истории. Зачем вам это? Он спрашивает это в точности как русские из посольства.
Мы чокнутые, пожалуйста, никогда не обменивайте советские паспорта родителей. Это музейные экземпляры! Уже одно то, что излучают их лица – куда более молодые и куда более утомлённые – на никогда не выцветающих чёрно-белых фотографиях, – пронзает насквозь. Позвольте мне только – без консульских проволочек – переписать моё детство с опытом, перешагивающим через визы. Иначе мне придётся построить здесь машину времени, а ещё лучше – машину пространства, подъёмный кран, поднимающий настроение э-кран (электронный кран) – и надеть очки Dolce&Vita для прямого провидения советского way of life.
Тогдашний урок истории заканчивается упражнением в переводе. Москва, не будешь ли ты так любезна построить дополнительный трубопровод, вложить дымящуюся трубку в рот кому-то, кто способен поэтически выдувать из русского в немецкий? Выдуть облачка слов, которые – как источник изначального потока – дали бы меткому слову просочиться в мой речевой поток. Это было бы полезное изобретение лучшего будущего.
И вот милый неославянофил, ощетинившись, пишет примерно следующее:
Привет, Т.!
Спасибо за фотографии. Некоторые подписи под картинками вызвали у меня улыбку, иногда из-за Вашей иронии, иногда из-за весёлой орфографии. Современный Берлин, судя по этому, напоминает общим колоритом Москву или какой-нибудь другой русский мегаполис. Наверняка имеется и определённая специфика местных условий, и тем не менее доминирует дух глобализации. А я-то полагал, что в Европе этим не страдают, однако и бабушка Европа изрядно затронута этим. В России, правда, глобализации содействует одна национальная черта характера… Это очень хорошо описано в рассказе Лескова Запёчатлённый ангел: