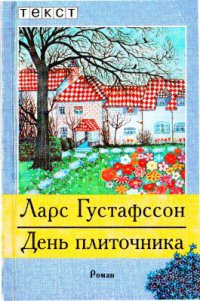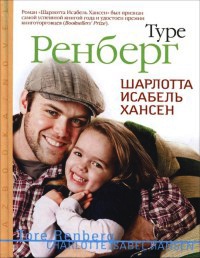Книга Смерть пчеловода - Ларс Густафссон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Когда я приехал в Упсалу и записался в семинарию, большинство моих приятелей давно успели обосноваться в городе, а я довольно долго был в армии, проходил на флоте унтер-офицерскую подготовку, и, когда поступил в семинарию, все, кого я знал по Вестеросу, уже учились в университете.
Маргарет поступила в семинарию год спустя.
Встретились мы на танцах. Вряд ли я собирался приглашать ее, но по какой-то причине все-таки пригласил.
Вот тогда-то я и ощутил исходившее от нее удивительное чувственное тепло. Мы танцевали, тесно прижавшись друг к другу.
Но лишь один раз.
Потом я пошел домой к совсем другой девушке, единственное, что я о ней помню, это рост — она была намного выше меня, и, кажется, я даже спал с нею.
Провести ночь с Маргарет, должно быть, почему-то казалось тривиальным. В те упсальские годы жизнь моя шла весьма безалаберно. В семинарии особых сложностей не было, подлинные неприятности мне доставляла только игра на органе, чертовы педали никак не желали попадать в такт, позднее, лет через десять, когда я учился водить автомобиль, инструктор жаловался, что я обращаюсь с автомобильными педалями так, словно это педали органа. Но если отвлечься от педалей, упсальская семинария была поистине чепухой, детской забавой, или как там еще говорят в таких случаях, и время я использовал главным образом на то, чтоб бегать за девушками.
Почему — не знаю, наверно, я был переполнен каким-то беспокойством, но в особенности меня интересовало обольщение.
Слово, конечно, слишком высокопарное… но речь шла именно об обольщении.
Я хотел доказать, что существую. А доказать это можно одним-единственным способом —. воздействуя на другого человека.
Чем сильнее такое воздействие, тем убедительнее подтверждается твоя собственная реальность.
В те годы мне ужасно хотелось быть на виду. А если удается кого-нибудь обольстить, значит, удается и быть на виду.
Студенческие землячества устраивали тогда в Упсале потрясающие танцевальные вечера, в особенности славились те, что бывали по средам в Вестманландском землячестве; безумная толчея, запах дешевых духов, по одну сторону зала — девушки, по другую — парни. Жарища такая, что лак на портретах увешанных орденами давних инспекторов просто чудом не растекался.
Собственно, оставалось только выбрать. Безлично, методом тыка.
Но меня интересовали в первую очередь девушки слегка застенчивые, слегка замкнутые, такие, что могли каким-то образом измениться.
Такие, что легонько трепетали, когда ты с ними танцевал. Чуточку напряженные.
Думаю, подход у меня был сугубо механический, в том смысле, что я запускал некий процесс, который преследовал одну-единственную цель — доказать что-то обо мне самом.
(«Обо мне самом», «я сам» — все эти словесные конструкции кажутся мне теперь сущей тарабарщиной. В них попросту нет смысла.
Но я не могу точно объяснить, что имею в виду.)
С деньгами у меня тогда обстояло до крайности скверно. Покупательная их способность была выше, чем теперь, но и учебные ссуды приходилось растягивать на куда более долгий срок, и, если сидеть сложа руки, ситуация складывалась препаршивая.
Сначала мы втроем — Бертиль, Леннарт и я — снимали две большие комнаты в Свартбеккене. Но миновал один семестр — и Бертиль с Леннартом стали отдаляться от меня.
Ведь они учились в университете и мало-помалу обзавелись собственными друзьями. Правда, дело было не только в этом. Отличаясь прилежанием — надо сказать, Бертиль умер всего несколько лет спустя, но это уже совсем другая история, — отличаясь прилежанием и амбициозностью, они решили, что я не в меру часто сманиваю их на гулянки, а средствами на такую разгульную жизнь никто из нас не располагал.
Помню, что в конце ноября мы ходили по ресторанчикам без пальто, чтобы сэкономить несколько крон на гардеробщике.
Вновь встречаясь со мною лет через пятнадцать, многие твердили, что я очень изменился, стал просто до невозможности спокойным.
Я никогда не мог толком уразуметь, что они имеют в виду. Сам я никакой перемены в себе не ощущал.
Но, судя по всему, в то время я слыл человеком безалаберным, как бы без царя в голове. Кажется, кое-кто даже вспоминал обо мне всякие смешные истории.
Сам я отчетливо помню всегдашнее отсутствие денег, постоянные выпрашивания взаймы то у одного, то у другого, долги, которые нужно было непременно вернуть, и долги, которые в случае чего можно было послать к черту, и все эти мерзкие виляния при встречах с теми, у кого не раз занимал деньги, но так и не отдал ни гроша.
Хуже всего было под конец, на последнем курсе. Тот год вообще выдался суетливый. Для меня по сей день загадка, как я умудрился вполне успешно сдать выпускные экзамены.
Я встречался тогда с девушкой по имени Черстин. А было это, кажется, весной 1958 года.
Я и теперь думаю, что она питала ко мне большую симпатию, едва ли не любовь, по крайней мере, что-то во мне очень ее привлекало. Но вместе с тем думаю, что я никогда не встречал другого человека, который бы так откровенно меня боялся.
Чего она боялась? Бог ее знает!
Спустя много лет я размышлял об этом, отыскивал всевозможные деликатные объяснения, перечитывал ее письма, просматривал по-девчоночьи острые и тонкие рассуждения о моей душевной жизни (себялюбец, эгоцентрик, неспособный поддерживать контакт с другим человеком, и т. д.), но в итоге пришел к совершенно неожиданному выводу: причина была, скорей всего, социальная.
Черстин выросла в Лидингё, в добропорядочном докторском семействе, не слишком прогрессивном, но, во всяком случае, вполне «почтенном», изучала историю литературы и скандинавские языки и готовилась стать магистром философии.
Совершенно ясно поэтому, что я был для нее неподходящей партией.
Я вызывал у нее интерес, но с социальной точки зрения являл собой фигуру весьма сомнительную.
По всей видимости, другие считали меня куда более опустившимся, чем полагал я сам.
Однажды воскресным утром, когда я проснулся у нее дома, мы из-за чего-то повздорили, не помню уже из-за чего, помню только, что утро было поистине лучезарное. Квартира располагалась на Эстра-Огатан, прямо против дворца, а в утренних лучах этот дворец всегда выглядел на редкость красиво. Я пошел к входной двери взять «Дагенс нюхетер», которую по воскресеньям примерно в эту пору бросали в почтовую щель, дело было весной, когда пресса начинает рекламировать купальные костюмы; я помню об этом, так как по дороге в комнату заметил, что газета пестрела такой рекламой, а потом мы опять стали ссориться, и она что-то сказала (при всем желании не могу сейчас вспомнить, что именно), но в результате я просто встал и ушел.
Ужасная история. По-моему, ею закончилась часть моей жизни.
(Оставшаяся часть закончится нынешней зимой.)