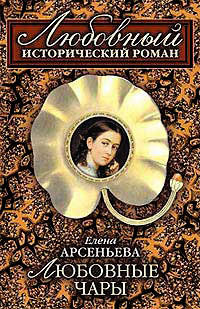Книга Все или ничего - Елена Ласкарева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вот и хорошо. Я тоже летаю…
— Когда приземлимся, повторим?
— Спрашиваешь!
Слякоть за окном, клонится к вечеру последний день марта, завтра наступит День смеха, и Ирина перешагнет в новый возраст — разменяет третий десяток.
Влюбленные сговорились тайком от тренеров сходить в ресторан, отметить сие знаменательное событие.
— Ир, ты какие цветы больше всего любишь? Розы?
— Нет, тюльпаны. Они — как весна. Только, пожалуйста, ярко-красные.
— Вас понял!
Но день рождения — только завтра. А сегодня…
…— Кажется, я налетался. Земля, Земля! Захожу на посадку. Даешь добро, Земля?
— Посадочная площадка готова. Только это не Земля, а Марс.
— Выходит, я — первый человек на Марсе! Ура, мы обскакали американцев. Вхожу в контакт с обитателями этой планеты! Вернее, с обитательницами.
— Ну и как, это разумные существа?
— Нет! Совершенно безумные.
— А красивые?
— Не знаю. У них на голове шлемы.
— А если они их снимут? — Ирина отбросила наконец свой блестящий головной убор.
— О! Земным бабам до них далеко.
— Бабам? Грубо! Женщинам…
— Ну нет… Женщины только здесь, на Марсе…
— Их что, много?
— Пока одна. Но энергии у нее — на десятерых… У нее веснушки, а над левой бровью — шрамик. И она — рыжая.
— Говорят, рыжие — бесстыжие. Это подтверждается?
— Стопроцентно… О…
— Что?
— Отключаюсь… Сеанс связи окончен…
— Он прошел удачно…
И снова был полет — далеко, в неизвестность, к звездам и конечно же к огненной планете Марс, владыке созвездия Овна…
А когда Ирина вновь открыла глаза после этой упоительной невесомости, она обнаружила себя в белом стерильном пространстве отдельной реанимационной палаты. Рядом с ней уже никого не было, посетители вышли.
Попыталась сесть на кровати — и не смогла. Тело не слушалось. Не подчинялась даже левая рука — та самая, «золотая левая», что всегда била без промаха. Ирина была левшой, и это нередко давало ей в соревнованиях преимущество.
Поворачивалась только голова, да и то с трудом, все остальное было заковано в какой-то жесткий панцирь. С трудом оторвав затылок от подушки, девушка с ужасом окинула взглядом белый с красными подтеками кокон, который почему-то занимал пространство, предназначенное для ее молодого, сильного тела.
И тогда она вспомнила все. Не то, что случилось десять лет назад, и не то, что происходило вчера, а события нынешнего утра. Лихую прогулку по московским улицам, и то, как желтый свет сменился красным, и большой золотистый автомобиль, вынырнувший из переулка, и столкновение.
И то, что ей стукнуло двадцать.
Она осознала вдруг, что все потеряно. Не бывать ей ни на чемпионате Европы в мушкетерском Париже, ни на мировом первенстве в Токио.
Сколько она тут проваляется? Месяц? Два? За это время другие спортсменки, которые прежде лишь почтительно толпились за ее спиной, сумеют вырваться вперед. И уже она вынуждена будет нагонять их, наверстывая упущенное. Но это, увы, только к следующему сезону.
А что, если…
А вдруг не месяц, не два, а целый год или даже… всю жизнь? Сумеет ли она вообще вернуться в большой спорт?
И следом — другой вопрос, еще ужаснее: сможет ли она в принципе двигаться? Этот кокон, эти бинты, этот гипс… Она ведь не видит, не может оценить своих увечий.
Что может быть страшнее неизвестности! Ирина увидела на стене над кроватью кнопку вызова сестры. Позвать, спросить, узнать!
На смену импульсу тут же пришло осознание полной беспомощности: даже надавить на эту белую пластмассовую кнопочку нечем. Руки спеленуты. А… есть ли они вообще? Случается ведь и такое… ампутация.
При этой мысли разом, точно взрывная волна, нахлынула боль. В первый раз с момента аварии.
Тело болит — значит, оно есть, значит, оно живо!
Но… но бывают ведь и так называемые фантомные боли. Ирина в детстве однажды испытала это, когда ей вырвали зуб, а он, казалось, все еще продолжал ныть.
Не в силах больше переносить эту пытку болью и мучительными догадками, она заверещала — громко, истошно, что было сил, как орут новорожденные младенцы:
— А-а-а-а!
И тут же услышала топот в коридоре, увидела, как распахивается дверь, и целую толпу людей на пороге палаты, облаченных в белые и светло-зеленые халаты.
Лица у всех были… счастливые.
— Вопит-то как! Вокалистка!
— Значит, есть еще порох в пороховницах!
— Будет жить!
Они радовались, как малые дети, поздравляли друг друга. Их, похоже, не интересовало, будет ли пациентка действительно жить, или ей придется влачить жалкое существование в инвалидной коляске.
…Зато это очень интересовало Константина Иннокентьевича Самохина, который в это время стоял у окошечка больничного справочного.
— Первенцева Ирина Владиславовна. Двадцать лет.
— Отделение?
— Не знаю. Хирургия, наверное.
— Нет такой.
— Как? Мне из милиции позвонили, сказали: ее привезли сюда после дорожного происшествия.
— Ах, дорожного! Тогда… погодите… вот. Реанимация, а не хирургия никакая.
— Реанимация… — У тренера душа ушла в пятки. — Она что же… кандидат на тот свет?
— Хм, хорошенький вопросик. Вы ей кто, отец?
— Отец, и мать, и брат, и сват! — сорвался Самохин. — Не ваше дело! Я спрашиваю, как ее состояние, вот и отвечайте!
— Пока сведений нет.
— Что значит — пока? А когда будут?
— Не знаю. Реанимация, сами понимаете.
— Черт!
Константин Иннокентьевич в досаде отошел от окошка. Вот еще напасть! Подвела его Ирка под монастырь, сорвала далеко идущие планы.
Если ей жить надоело — это ее личная проблема, Самохин-то тут при чем? Кого, спрашивается, теперь выставлять на первенство Европы? Не Вику же Соболеву, эту малолетку сопливую? Да она в Париже даже в десятку не войдет!
Сзади, из окошка справочной, до него донеслось:
— Вы поговорите с лечащим врачом, он все расскажет…
— А! — Тренер только безнадежно махнул рукой.
Нет у него времени с докторами лясы точить. И так все ясно.
Цветочки там, апельсинчики для разнесчастного «товарища по команде» — это он сорганизует, конечно. И ребята сбросятся, и профсоюз энную сумму выделит. Нельзя же не соблюдать приличий: положение обязывает придерживаться мушкетерского девиза «Один за всех, и все — за одного!»