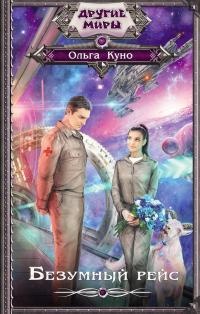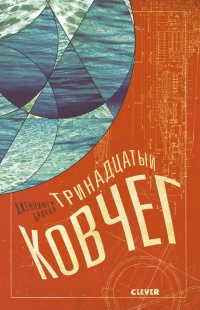Книга Полночные близнецы - Холли Рейс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я еще несколько раз толкаю Олли, потом крепко пинаю его, убеждаясь в том, что он не намерен просыпаться. А потом разражаюсь слезами. Ничто из происходившего сегодня не имело смысла, но, когда свет изменился, я была так уверена, что вот-вот получу ответы. А теперь они ускользнули от меня.
Продолжая жалобно всхлипывать, я беру в кухне губку и смываю осколки с лица и рук Олли. И гадаю, что он может видеть во сне, – но прежде всего у меня возникает очень явственное ощущение, что он спит под воздействием некоей силы, находящейся за пределами любого нормального понимания.
Олли так и не просыпается, когда я перетаскиваю его на диван. Нет смысла оставлять его на полу. Папа наверняка задаст вопросы, на которые не существует вразумительных ответов. Управившись с Олли, я тащусь наверх, в душ, и смываю осколки стекла с собственного тела. Кожа на левом боку по-прежнему отличается по цвету от остальных участков, но эти следы не так ужасны, как шрам на моем лице. Одежда в ту ночь слегка защитила меня от пламени, но мне до сих пор неприятно на это смотреть.
Я чищу зубы, расчесываю волосы, смазываю шрам лечебным увлажняющим кремом. Крем приглушает жжение, и точно так же приглушаются мои эмоции. Но я не могу заставить себя лечь в постель. Мне нужны ответы.
Мне приходится притащить наверх стул из кухни, чтобы достать до ручки чердачного люка. Когда я тяну ее, немалое количество пыли сыпется вслед за маленькой лесенкой, падающей вниз. Поднявшись на чердак, я перебираюсь через балки, чтобы подойти к груде коробок, сваленных в одном из углов, за рождественскими украшениями. На чердаке еще холоднее, чем в моей спальне, так что я одну за другой перетаскиваю коробки в свою комнату. Но я не могу допустить, чтобы папа узнал, что я рылась в вещах мамы.
В своей спальне, держа в руке кружку с горячим сквошем и накрыв колени одеялом, чтобы защититься от холода, я открываю первую коробку. Внутри нахожу маленький цифровой диктофон. Я вставляю в него новые батарейки, но, похоже, аппарат слишком стар – он не работает.
В следующей коробке полно поблекших фотоснимков, большинство из них относятся к детству мамы. В третьей коробке скрыто именно то, что мне нужно: аккуратные стопки дневников с наклейками. «Ваша мать никогда не любила что-то выбрасывать, – как-то раз сказал нам папа. – Чтобы вспоминать, какой она была прежде, – так она говорила».
Мне нужно совсем немного времени, чтобы вычислить тот год, когда маме исполнилось пятнадцать, и гораздо больше, чтобы среди кучи тетрадей отыскать ту, на которой была наклейка «1993». Конечно, я и раньше читала большинство из этих записей, но одно дело – читать дневники пятнадцатилетней девочки, когда самой тебе только одиннадцать, и совсем другое – когда тебе самой тоже пятнадцать. Мои глаза выхватывают кусочки записей: «Лаура сегодня снова вела себя как сука. Что тут поделаешь, если нам обеим нравится Тоби…» Потом, несколько месяцев спустя: «Тоби дал мне билеты на „Возьми Это“! Он САМЫЙ ЛУЧШИЙ друг! Что скажет Лаура?»
Да уж… Мама совсем не была похожа на меня, да?
Я торопливо добираюсь до сегодняшней даты, тридцать первого октября. Ее пятнадцатый Самайн. Она не пишет ничего особенного, просто список домашних заданий и напоминание о том, чтобы купить открытку ко дню рождения дедушки. Я чуть не закрываю дневник от разочарования, когда замечаю это: маленькая звездочка в углу страницы.
Я снова всматриваюсь в дневник. Мама не была рассеянной. Она записывала разное, но, кроме этой звезды, на страницах нет никаких сердечек, или человечков, или затейливых орнаментов.
Я переворачиваю страницу. Наверное, я ожидаю увидеть нечто вроде взрывного текста: «ЧТО ЗА ЧЕРТОВЩИНА СЛУЧИЛАСЬ ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ?!» – написанного красными чернилами и тридцать раз подчеркнутого. Но там… ничего нет. Остальные страницы за эту неделю чисты.
Лишь десять дней спустя мама снова продолжает записи, но теперь она отмечает совершенно другие вещи. Болтовня о мальчиках и перебранках с подружками исчезла. Теперь мама конкретна – больше перечней домашних заданий, больше напоминаний. В декабре она пишет: «Сегодня порвала с Тоби. Это было тяжело».
Я беру дневник за 1994 год. Здесь то же самое – скучные перечни, и мне почти хочется, чтобы она снова слегка приправила их школьными сплетнями. Но потом, первого февраля, случается кое-что интересное. Мама начинает писать полную чушь.
Совершенно ясно, что моя мать вовсе не собиралась завоевать какой-то приз за стихосложение. Это очевидный код или загадка своего рода, и мне хочется быть не такой уставшей, тогда я, возможно, сумела бы ее разгадать. Я беру со своего письменного стола чистую тетрадь и переписываю в нее это тайное послание.
Но когда я снова открываю дневник, то замечаю, что на этой тетради есть суперобложка – самодельный конверт из цветной бумаги, склеенный скотчем. Я снимаю его и с горьковатой радостью смотрю на обложку под ним. На простом сером картоне четким, острым почерком моей матери написано: «Рыцарская книга Уны».
Из всего того безумия, что происходило сегодня, это ощущается самым странным. Но это и самое убедительное доказательство того, что в словах Верховного мага была какая-то правда, и от этого я наполняюсь решимостью.
Я продолжаю поиски.
К тому времени, когда я слышу, что папа вернулся домой, я добралась до 2001 года, и в моей тетради прибавилось еще несколько «стихотворений». Мама нечасто писала кодом, и это заставляет меня думать, что она поступала так только тогда, когда случалось нечто по-настоящему важное. Я слышу, как папа без особой настойчивости говорит Олли, чтобы он шел спать, но Олли явно не реагирует, и папа сдается и поднимается наверх. Я слишком поздно соображаю, что он увидит свет в щели под дверью моей комнаты, и спешу выключить лампу.
– Ферн? – тихо окликает меня папа из-за двери спальни.
Мне хочется распахнуть ее, обнять папу и попросить его рассказать мне все, что он знает о маме. Рассказать о сообщениях Верховного мага и маминых дневниках. Попросить его помочь мне разобраться во всем этом.
Но я сижу очень тихо. Дверь между ним и мной точно так же могла быть и бетонной. С тех самых пор, как папа не стал наказывать Олли за его участие в поджоге, я точно знаю, как сильно папа любит Олли и как мало любит меня. Он наконец уходит в ванную комнату, и несколько минут спустя я слышу, как он закрывает дверь собственной спальни. И снова включаю свет.
Когда сквозь занавески на окне начинают просачиваться солнечные лучи, а мои пальцы ноют от холода, я добираюсь до последнего дневника мамы. 2005 год. Год ее смерти. Здесь стихи попадаются чаще, а почерк мамы не так четок. Я листаю страницы до последней записи: второе августа. Никаких стихов, только запись о прививках, которые должны сделать мне и Олли. Нам тогда было по два месяца.