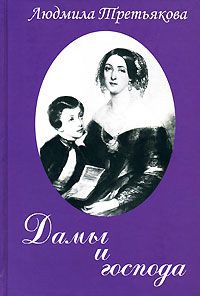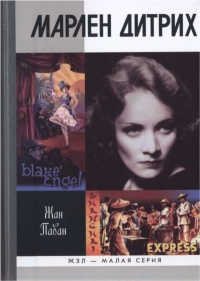Книга Незакрытых дел – нет - Андраш Форгач
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Во внезапной тишине, которая неожиданно обрушилась на них в самом начале разговора и которая в конечном счете была его собственной тишиной, подполковник ощутил, что этот молодой человек окажется более твердым орешком, чем обычно бывает. От его предупредительной улыбки веяло какой-то особой неуязвимостью, неприступностью, было в нем какое-то бесконечное одиночество, которое подполковник – иначе он не мог – даже зауважал, из-за чего все его предложения в процессе разговора сами собой переходили в условное наклонение, а предостережения, которые должны были звучать определенно, твердо и грозно, по ходу дела начинали таять во рту, как масло. Отведенное на беседу время потихоньку истекло, а подполковник все ломал голову над цитатой из Талейрана, которая могла бы произвести впечатление на молодого человека. Семьи у него нет. Возможно, никогда и не будет, сухо подумал подполковник; он заметил, что глаза у юноши совсем такие же, как у г-жи Папаи, это вселило в него надежду, но прорваться сквозь тишину он все равно не мог. Он уже поднялся из-за стола с паспортом в руках – стоя он был ненамного выше, чем когда сидел, – и уже протягивал его молодому человеку, как вдруг, подняв голову, посмотрел прямо в зелено-голубые глаза визитера и выдал (его самого удивило, с какой страстью вырвались из него эти слова): «Кофе должен быть горячим, как преисподняя, черным, как черт, чистым, как ангел, сладким, как любовь». К концу этой фразы он покраснел. «Талейран, – добавил он. – Не хотите ли кофе?» И тут до него дошло, какую огромную ошибку он совершил. «А, Талейран! – сказал юноша, широко улыбнувшись. – Это начало конца». На что, как в шахматной партии, подполковник немедленно ответил еще одной цитатой: «Это хуже, чем преступление, – это ошибка». – «Это Фуше, – без труда парировал молодой человек, забирая паспорт из рук подполковника. – Министр полиции». – «Кто-кто?» – «У Стефана Цвейга есть про него книга. Классика». – «У кого про него книга?» Подполковник совсем запутался. «Спасибо, не хочу, – сказал молодой человек. – Меня там брат ждет». Подполковник, как будто он только и ждал этого волшебного слова, слегка вздрогнул и собрался. «Прошу вас», – начал он и сам удивился просочившемуся в его голос почти просительному тону. «Мы прямо как любовники, – думал он между тем, сгорая от стыда, – в каком-нибудь французском фильме, на вокзале». Взор его затуманился, он тяжело дышал, но потом собрался. «Прошу вас, – решительно заговорил он, – не рассказывайте о предмете нашей беседы брату. Сделаете это для меня?» – «Конечно», – сказал молодой человек и, прежде чем выйти за дверь, еще раз оглянулся. Подполковник стоял там, уже наполовину отвернувшись, как будто глядя на человека, которого было видно лишь ему, а потом пропал из поля зрения посетителя, потому что тот уже закрыл за собой дверь.
«Что думаешь, Дюри?» – спросил подполковник вышедшего из коридорчика коллегу. Капитан Очко, облаченный в гражданское, прикурил сигарету. «Не знаю, – непринужденно сказал он. – Мне кажется, с ним надо было пожестче». – «Пожестче? – уставился на него подполковник. – Я рад, что хоть одну нормальную фразу из себя выдавил». – «Так он тебя околдовал?» – спросил Очко с издевкой. «Как думаешь, явится он?» – «Понятия не имею», – сказал Очко и прокричал секретарше: «Марика, кофе сюда!» Марика вошла с противоположной стороны, из оклеенной обоями бесшумной двери между сейфами. «Сейчас сварить?» – «Чуть-чуть подождите, товарищ», – хрипло сказал подполковник, и в ответ на это глаза у Марики округлились. То, что подполковник назвал ее товарищем, ничего хорошего не обещало.
Папаи нервничал.
Он тащил сынишку по Финчли-роуд, то спускавшейся, то поднимавшейся вверх главной улице Хэмпстеда, шел вперед или, скорее, мчался сломя голову, и сын тщетно старался попасть в ногу, не поспевая за широкими и непредсказуемыми шагами своего отца. Они пронеслись мимо мелких окраинных магазинчиков, миновали остановку, где пассажиры, выстроившись гуськом, дожидались автобуса, потом кирпичную стену с вывеской «Банк», откуда мужчины в шляпах, стоя спиной к дороге, извлекали, как по волшебству, деньги[25]; пробились сквозь тяжелый, пряный запах fish and chips, пробежали рысцой мимо темного жерла станции метро «Finchley Road», беспрерывно изрыгавшей пассажиров и заглатывавшей новых, и продолжали двигаться по направлению к своей цели, человек-глыба и кроха-сын. Отец так схватил сына за руку, что кончики пальцев у того совсем уже полиловели, стали багровыми, казалось, из-под ногтей вот-вот брызнет кровь, но хотя истерзанные пальцы болели, мальчик долго не осмеливался даже обмолвиться об этом. Папаи несся по тротуару длинными нервными шагами, не обращая внимания на встречных, которые предусмотрительно уступали ему дорогу.
И при этом он пел.
Иногда сын перехватывал взгляды прохожих, но ничего не говорил – он знал, что говорить рекомендуется не всегда, иной раз лучше промолчать. Не раз бывало, что дети, как сверчки, моментально разбегались по углам, стоило только отцу неожиданно выскочить из какой-нибудь комнаты в длинном коридоре их лондонской квартиры (да и дома в Будапеште тоже) – он же, скрежеща зубами, молотил кулаками по воздуху и бормотал нечто неразборчивое в адрес своих невидимых врагов.
А врагов у него была прорва.
Куда ни глянь, он всюду видел людей, стремящихся его уничтожить. Наверное, это началось, когда четырехлетним ребенком он лишился отца. Эти набившиеся в комнату высокие мужчины, все сплошь в черном, все на него глазеют. Ледяная рука отца у него на темени. Но Папаи думал не только о себе. Еще больше его беспокоило, что великое дело, на которое он положил жизнь, находилось в опасности и в любой момент могло потерпеть поражение. Великое общее дело, дело всего человечества. К тому же он был одинок, нещадно одинок.
И при этом он пел.
– Папа, – едва слышно сказал мальчик, – не пой, а то подумают, что ты идиот.
Он готов был откусить себе язык, он понятия не имел, зачем вообще заговорил. Человек-глыба, его грузный отец, который всего минуту назад пел веселую песенку, дико сжал сыну руку и с перекошенным лицом заорал на него, так что сразу несколько прохожих остановились и стали крутить головами туда-сюда, пытаясь сообразить, откуда доносится этот непонятный рев:
– Как ты смеешь называть отца идиотом?
И он бросил сына прямо посреди Финчли-роуд и ушел не оборачиваясь – лицо свинцовое, побелевшее, губы трясутся. У мальчика на глаза навернулись слезы. Не в силах двинуться, он стоял, стараясь не упустить из виду измятый отцовский плащ, но в этот предвечерний час он постепенно затерялся среди прохожих: по улице шли сплошь одни взрослые – сделали свои покупки, теперь пойдут домой, включат телевизор и будут смотреть очередную серию «Улицы Коронации».
Да, Папаи нервничал.