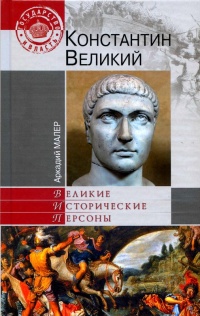Книга Обреченный Икар - Михаил Рыклин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В 1914 году Россия вступила в войну, откликнувшуюся через три года двумя революциями, Февральской и Октябрьской.
«Все переменилось в семнадцатом году. Семья Чаплиных встретила [Октябрьскую. – М.Р.] революцию, как весну, как самый великий праздник»[18].
Вера Ивановна и сестра Александра, Мария, вступили в союз учителей-интернационалистов, участвовали в перестройке школы, вели культурно-просветительную работу среди крестьян.
Павел Павлович сбросил рясу, оставил церковь, уехал с семьей в Смоленск и начал работать в новых советских учреждениях – некоторое время в области внешкольного образования, а затем в доме просвещения Красной армии.
Александр Чаплин в феврале 1918 года стал комиссаром просвещения Смоленской губернии. 10 марта 1918 года в газете «Звезда» при его активном участии появляется обращение «К делу, товарищи!»: «Самыми активными, самыми горячими революционерами во все времена была молодежь. В Октябрьскую революцию первыми на баррикадах были юноши. Сейчас вся Россия покрывается организациями молодежи. В Петрограде, Москве… в городах провинции, в деревнях – везде, как грибы, растут организации молодежи. Цель их – служение международной революции всеми силами. На баррикадах, на митингах оружием и словом бороться против чудовищного “законного рабства”, которым сковала буржуазия народы.
Каждый член “Союза рабочей молодежи III Интернационал” несет в свою организацию все, что в нем есть прекрасного: свою молодость, знания, ненависть к угнетателям…
Юноши и девушки! У нас в Смоленске нет этой организации. Мы распылены, каждый предоставлен сам себе. Этого не должно быть! Юноши-рабочие и девушки! Идите скорее под наши красные знамена!»[19]
Но далеко не у всех семей служителей культа отношения с революцией складывались так благополучно, далеко не все были готовы складывать с себя сан и вливаться в революцию.
По российскому духовенству, уверен Варлам Тихонович Шаламов, революция ударила с особой силой. У знакомых дворян нередко отыскивались родственники, имеющие заслуги перед революцией: такие справки спасали от статуса «лишенца», давали права. У огромного большинства священников, в отличие от Чаплина, нужных новой власти доказательств враждебности царскому режиму не было. Не было их и у вологодского священника отца Тихона Шаламова, сторонника обновленчества, течения, во главе которого стоял митрополит Александр Введенский. Хотя его сторонники настаивали на светской, мирской интерпретации православия (митрополит считал Христа «земным революционером невиданного масштаба», приобщил к лику святых собственную мать и т. д.), новую, радикально атеистическую власть это не устраивало: она не осознавала пределов собственного богоборчества, видя в любых нераскаявшихся служителях культа своих врагов. «Отцу, – пишет автор «Колымских рассказов», – мстили все – и за все. За грамотность, за интеллигентность. Все исторические страсти русского народа хлестали через порог нашего дома»[20]. В 1918 году семья Шаламовых была разорена, ей стал угрожать «самый обыкновенный голод». Не спасали мамины пирожки, который одиннадцатилетний Варлам продавал на базаре. Мать семьи стояла на кухне, пыталась что-то приготовить из гнилой картошки.
Отец будущего писателя любил хорошие вещи (в доме был шкаф красного дерева, шкафы карельской березы, бобровые шубы). Писатель на всю жизнь запомнил, как в 1918 году из квартиры исчезла мебель – ее в обмен на продукты унесли местные крестьяне. Вместе с вещами у Шаламова исчезли иллюзии по поводу благостной природы простого народа, которые десятилетиями культивировала русская интеллигенция: грубо обнажилась его «стяжательская душа». «Общением с революцией были не только обыски, но страшные фигуры подлинных грабителей, выволакивающих вещи при униженной улыбке матери»[21].
Другой «прелестью» революции было уплотнение: в квартиры прежних владельцев подселяли новых жильцов, как правило членов партии. Соседом Шаламовых на какое-то время оказался кузнец, ударник производства; после работы, напившись самогона, этот Геракл нещадно избивал свою жену.
Александр Чаплин, вступив после революции в партию, сначала стал заведующим Смоленским отделом народного образования, а вскоре после этого, в 1922 году, переехал в Москву и работал заведующим сначала организационно-инспекторским отделом, а затем административно-организационным управлением Народного комиссариата просвещения РСФСР под руководством наркома Анатолия Луначарского.
Не исключено, что Александр видел в Наркомате юношу, пришедшего за разрешением на комнату в общежитии 1-го МГУ. «Я был принят в университет, но без общежития, как москвич, и жилье, крыша над головой, стало трудной неотложной проблемой… На Сретенском бульваре мы быстро отыскали кабинет Луначарского, обратились к секретарше»[22].
Разрешение в итоге выдал заместитель Луначарского, а юношей был Варлам Шаламов.
Шаламов был поклонником Луначарского, тепло отзывался в 60-е годы о его диспутах с главой обновленцев, митрополитом Введенским, знавшим шаламовского отца как одного из своих сторонников, на тему «Бог ли Христос?», восхищался его энциклопедическими познаниями и, главное, способностью доносить их до молодежи. Молодому человеку из Вологды и его товарищам нравилась манера наркома произносить «по-западному» слова «революция», «социализм», «интернационал».
И не только: «Нам нравилось, что носовой платок наркома всегда белоснежен, надушен, что костюм его безупречен. В двадцатые годы все носили шинели, кожаные куртки, кители. Моя соседка по аудитории ходила в мужской гимнастерке и на ремне носила браунинг… Это не был протест против курток, но указание, что время курток проходит, что существует заграница, целый мир, где куртка – костюм не вполне подходящий…
Он любил говорить, а мы любили его слушать»[23].
Между тем «время курток» – особенно черных, кожаных, которые с 18-го года, при Дзержинском, носили чекисты, – еще только наступало; читая эти строки, понимаешь: у юноши с такими вкусами с наступающим сталинским временем – даже независимо от политических убеждений – будут проблемы. Падения железного занавеса, отделившего СССР от остального мира, предстояло дожидаться более полувека.
Что Ленин на самом деле думал о непоколебимой человечности, какую писатель-народник Владимир Галактионович Короленко неизменно – как до, так и после октябрьского переворота – проявлял по отношению к жертвам несправедливости, известно.