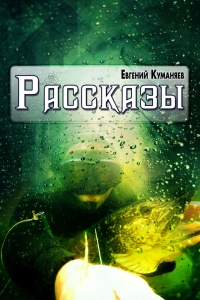Книга Жестяные игрушки - Энсон Кэмерон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В последнее время, правда, для меня это не выхлопы грузовика, а грохот гидравлического сваебойного агрегата, забивающего железобетонные сваи для будущих жилых домов глубоко в песок Порт-Мельбурна.
Где-то там, на берегу, шланги гидросистемы дергаются, и полутонная металлическая чушка молота ползет вверх по направляющей, пока не срабатывает датчик, высвобождающий ее, и она летит вниз, на оголовок бетонной сваи, и тогда в предрассветном Порт-Мельбурне слышен ее первый удар. Первый из тысячи, который донесется до тебя с юга, если ты стоишь на открытом месте, или с севера, отразившись от стены соседнего дома, если ты в помещении, или с востока, или с запада — в зависимости от того, в каком месте пригородного лабиринта ты живешь. Удар, зовущий в Порт-Мельбурн диваны «Негахайд», и кофеварки «Гадцжа», и кабриолеты БМВ, и сорта пива со всего мира, и искусство Гейдельбергской школы, и вообще всю лощеную, в дорогих ярлыках цивилизацию. Зовущий их туда, где прежде не было ничего, кроме недорогих домов для рабочих и синих воротничков, и кабаков, и множества немытых детей.
И кошмар, сброшенный с полки этим сваебойным агрегатом, всегда один и тот же. Моя мать, черная женщина в белом хлопчатобумажном платье, стоит, небрежно привалившись к школьной ограде в Джефферсоне. Пришла забрать меня после уроков. Она стоит, облокотившись на верхний брус, а белое хлопчатобумажное платье на ее ягодицах, прижавшихся к проволочной сетке, разбилось на квадратики и выпучилось наподобие равиоли. Ее лицо выражает решительную, наигранную невозмутимость. Она смотрит вдоль улицы в одну сторону с каким-то полуотстраненным интересом, а потом смотрит вдоль улицы в другую сторону на какое-то другое несуществующее событие или сооружение, старательно не обращая внимания на перешептывание поджидающих своих чад рядом с ней белых матерей.
Мать, которую я вылепил на протяжении многих лет слой за слоем, ложь за ложью, в достаточно красивую скульптуру, которой можно похвалиться, но которую можно и разбить в мрачные минуты.
И вот, когда звенит звонок с последнего урока и все известное мне общество, спущенное с поводка, несется из школы на Балаклава-роуд к своим перешептывающимся матерям, она стоит там сама по себе, прислонившись спиной к проволочной сетке, глядя куда-то вдоль улицы на несуществующее событие. Вот так она ждет. Танцующее изваяние.
Я не выбегаю на улицу с другими детьми. Я в очередной раз угодил в одну из сотен ловушек, расставленных на мальчишек м-ром Кэрролом на протяжении его рабочего дня. Я угодил в одну из его ловушек и тем самым убил свою мать. Договорил за него одно из искусно недоговоренных предложений, решив, что он ждет моего ответа, тогда как на самом деле мне полагалось молчать, и был пойман с поличным — безмозглый мальчишка с жалким будущим или вообще без оного. И в результате был оставлен стирать с доски, и слушать, и смотреть, как м-р Кэррол перечисляет мои прегрешения, загибая поросшие рыжими волосками пальцы, а потом выразительно, со вкусом распространяется насчет ожидающего меня будущего, которое выражается… в отсутствии оного. А моя мать ждет меня на улице, одна среди буйного веселья.
Поначалу она просто ждет. Смотрит вдоль улицы поверх этого буйного детского веселья — сначала куда-то на юго-восток, потом куда-то на северо-запад. Потом, не в силах больше терпеть, начинает оглядываться через плечо на школьный двор, мимо велосипедной стоянки, в тень под входным козырьком, откуда я должен выбежать. Уроки кончились. Где же я?
Шум и гам вокруг нее понемногу стихают. Все расходятся и разъезжаются. Кто на своих двух, кто на велике, кто в родительском универсале — все спешат по домам. Она остается одна. Ей больше не нужно смотреть куда-то вдоль улицы. Теперь она может повернуться, и прислониться к этой изгороди животом, и снова облокотиться на верхний брус, и вытянуть шею, глядя мимо велосипедной стоянки в крашеные выцветшей зеленой краской классы, и спросить вслух: «Где же ты, Хантер?»
Поэтому она и не видит бордовый «Студебекер» с хвостовыми плавниками и темным плексигласовым козырьком над ветровым стеклом, едущий за ее спиной по Балаклава-роуд с опущенным пассажирским окном, пока я отчаянно ищу несуществующие слова, которые спасли бы ее. Не видит этих черных зрачков ружейного дула, которые по-змеиному, не мигая смотрят на нее из этого окна, и не слышит выстрелов в момент, когда слова, которые должны спасти ее, уже вертятся у меня на языке.
И я роняю свою влажную губку и бросаюсь к тяжелой двери нашей классной комнаты — двери, забранной небьющимся армированным стеклом. Где м-р Кэррол останавливает меня своим грозным «Эй!», тыча пальцем в доску, половина которой еще исписана мелом, который мне полагается стереть. Кажется, это какая-то речь Черчилля. Или стихотворение Киплинга. Или песенка про плюх-плюх веслышками вдоль да по реке, которую мы разучиваем к музыкальному празднику. Или здоровенное, в половину натуральной величины изображение Санта-Клауса, нарисованное м-ром Кэрролом белым и красным мелками.
И я просыпаюсь мокрый от пота в своей постели, и эхо моего собственного «Эй!» еще гуляет по нашей гулкой, освещенной фонарем с улицы ванной, а сваебойная машина на набережной второй раз за этот день оглашает наш пригород своим грохотом. Этот второй удар следует за первым, снова убившим мою мать.
Но самое страшное для меня в этом кошмаре вовсе не выстрел дробовика. Выстрел дробовика, когда он наконец раздается, оказывается едва ли не блаженным избавлением. Если честно, мне иногда кажется, что я выдумал этот дробовик и этот «Студебекер» только для того, чтобы выбраться из кошмара. Потому что самое страшное в нем — как она стоит, ожидая меня, притворяясь, что она не одна. Притворяясь, что ее интересует что-то постороннее. Притворяясь, будто, если захочет, запросто может завязать разговор с любой из соседок. Притворяясь, что она здесь не одинокая чужачка.
* * *
В первый раз этот сон приснился мне, когда мне исполнилось девять лет. Когда я в самом деле ходил в эту школу и ежедневно попадал в ловушки на мальчишек, расставленные м-ром Кэрролом, которые задерживали меня после звонка с последнего урока. Наутро после того, как мне приснился этот сон, я попросил отца: «Покажи мне, где она жила». Мне хотелось увидеть, откуда она пришла. Мне хотелось видеть, какой она была. За год с того дня, когда он сказал мне, как она умерла, я ни разу не заговаривал о ней. Но теперь она наконец стала черной и ждала меня в моих снах, прислонившись спиной к школьной ограде.
Зимняя суббота. Он собирается на финальный турнир по гольфу. Отрабатывает удары у сетки, растянутой у нас на заднем дворе, и одобрительно хмыкает после каждого удара, воображая, как остановленный сеткой мячик исчезает в воображаемой дали или приземляется в восхитительной близости от лунки на воображаемом газоне. Приговаривает сам себе: «Ага, чемпион!» или «Классный удар. Глаз-ватерпас». Все выверено и отработано. Он собирается уже выходить, когда я прошу его:
— Покажи мне, где она жила.
Мгновение он молча смотрит на меня. Потом опускает плечо, чтобы лямка его сумки для гольфа, а вместе с ней ожидаемые слава и удовольствие от предстоящего дня соскользнули по руке, и клюшки плюхаются на пол у его левого башмака, словно какой-нибудь ржавый металлолом, и он придерживает их ладонями за верх, и стоит так с минуту, глядя на меня, а потом отталкивает их, и деревянные рукоятки с ручной оплеткой стукаются о стену.