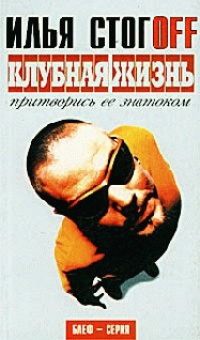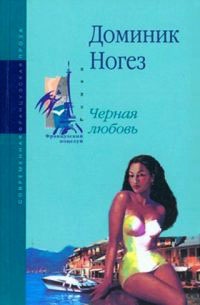Книга Бальзамировщик. Жизнь одного маньяка - Доминик Ногез
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из болтовни двух приятелей я так и не понял, что же заставило ассистентку нарушить молчание. Это я узнал на следующий день от комиссара Клюзо на улице Поля Берта. Дело было в деньгах: поскольку Азулей так и не был найден, ни живым, ни мертвым, она не имела право ни на выплату социальной страховки, ни на пособие по безработице. По крайней мере, что-то в этом роде. Комиссар ликовал. В бесконечной череде дел, которые он распутывал последние полгода, он наконец-то напал на серьезный след. Теперь благодаря ассистентке дантиста он был уверен, что скоро распутает весь клубок.
Но бедняга распутал не так уж много. Я вновь увидел его три дня спустя на коктейль-пати, бывшей частью презентации для прессы грядущего оксеррского Международного фестиваля музыки и кино. Допивая четвертую порцию «Бурбона», он, то и дело фыркая, вполголоса рассказал мне, словно какую-то забавную вещь, которая никак его не касалась, печальную новость сегодняшнего дня: бабушка ассистентки дантиста, у которой та жила, недавно позвонила ему и в слезах сообщила, что ее внучка исчезла, и на сей раз по-настоящему!
Ясное дело, что пресса — как местная, так и центральная — восприняла эту новость гораздо живее, чем комиссар. Теперь всем стало известно, что в Оксерре объявились какие-то темные личности, которые запросто могут похитить вас средь бела дня, даже в таком очаровательном месте, как парк Арбр-Сек, и заодно наказать чересчур болтливых свидетелей, если те дадут к этому повод. У всех немедленно возникло «чувство неуверенности», как любят это называть некоторые «специалисты» в области чувств (которые, как пошутил Мартен Морсо, вторгаются в сферу реальных преступлений и исчезновений с тем же апломбом, с каким доктор Парпале в «Кнокке»[130]говорил всем своим пациентам, даже наиболее серьезно больным: «Ничего страшного, друг мой! Это вы себе надумали!»). Мы с Мартеном сами смогли в этом убедиться на следующий вечер, когда примерно в полдесятого решили выпить по стаканчику. На улицах ни души, все закрыто! Для того чтобы выпить какой-то несчастной ром-колы и поболтать о наших последних литературных проектах (в основном о его), нам пришлось сесть в его машину и ехать за много километров от города в знакомый ему дансинг-бар, который стоял буквально в чистом поле. Там, среди столь же немногочисленной, сколь и подозрительной клиентуры, Мартен снова начал мне рассказывать о трудностях с его новым вариантом «Одиссеи», который снова буксовал. Теперь он скорее ориентировался на научно-фантастический роман: космический робот прибывает на Юпитер и находит там следы исчезнувшей цивилизации под огромным слоем льда. Воссоздание так называемой цивилизации, погибшей от своих пороков. Или чтобы не отрываться от Земли: последние дни мира. Это было забавно! Прощаясь, он объявил мне «великую новость»: он собирался переезжать в Дижон. Оксерр ему «осточертел».
— Все эти люди, которые говорят только о футболе! Ни одного книжного магазина, достойного этого названия! Это город правых, где наиболее именитые горожане заигрывают с ультраправыми.
— Нынешний мэр — левый.
— Да, но от этого ничего не меняется. И как во всех подобных городках, все делается ради машин! Общественный транспорт не ходит, такси вечно не дождешься, особенно в Сен-Жермен, когда приходит парижский поезд, — ох, уж эти поезда! Ползут, как черепахи, — целых шесть остановок, пока не прибудут в Ларош-Мижанн! Что до автобусов, они в лучшем случае ходят раз в двадцать минут, а то и в час, и перестают ходить после семи вечера — они могли бы стать объектом для новой поговорки: «Частый, как автобус в Оксерре».
Но в конце концов Мартен слегка улыбнулся, как бы давая понять, что это мелочи:
— Кроме того, мне будет проще читать лекции. Не говоря уже о…
Он осекся. Здесь явно крылась еще какая-то причина, и наконец я ее выяснил: юная Маэрция, одна из лучших дижонских студенток, и «такая красивая, что дыхание перехватывает»… Да, это явно стоило переезда!
Перспектива его отъезда меня огорчила. Я почувствовал, что мне будет недоставать Мартена. С кем я теперь буду говорить о Рембо, о научной фантастике, о Гомере и хайку?
Во всяком случае, не с Бальзамировщиком. Теперь он все чаще покидал свое жилище и все дольше отсутствовал. В те редкие дни, когда он был у себя, это сразу было видно: он широко распахивал окна — это он-то, который прежде держал их плотно закрытыми! Во времена Квентина такой максимализм был бы невозможен: в Оксерре никогда раньше не было такой жары, как тогда, а молодой человек любил разгуливать нагишом. Но сейчас, когда Квентин его оставил и началась одна из наиболее холодных зим за последнее десятилетие, это выглядело странно. Однако подобной эксцентричности я был обязан совершенствованием своего музыкального образования. Так, я прослушал (вместе с остальными соседями) большое количество оперных арий, из которых мсье Леонар явно предпочитал одну — очень красивую, хотя чересчур торжественную и даже немного пугающую. Это было молитвенное обращение, и начиналось оно так:
— О, божества Стикса! Служители смерти!
Позже я узнал, что это ария из «Альцесты» Глюка.
Однажды ночью я проснулся от того, что вначале принял за диалог. Фразы доносились из окна мсье Леонара. Но это был всего лишь монолог, все более запинающийся. Потом последовал звон стакана о бутылку, и я понял, что несчастный Бальзамировщик напивается и говорит сам с собой. Вскоре в его голосе уже звучали слезы.
— Пушок на твоем теле, — стонал он, — такой очаровательный пушок, любовь моя! Так необычно для азиата! На твоей гладкой коже… Так неожиданно и так реально. Так реально. Твоя кожа такая настоящая. А твои глаза! Эти узкие миндалевидные щелки… Это я любил в тебе больше всего: не только их цвет, карий, почти черный, кофейный… но и эту миндалевидную форму… Форма… Все твои формы были совершенны, маленький мудак! Двадцатью веками раньше ты был бы Антиноем, самым красивым юношей на свете… Как печально! Как печально!
На следующий день, довольно рано, я очень удивился, встретив его на улице Рене Шеффера — по идее, в это время он должен был еще приходить в себя с похмелья. Он шел не торопясь, но в то же время не был похож на обычного гуляющего. Он явно знал, куда идет. Я какое-то время следовал за ним. Дойдя до площади Сент-Эсеб, он решительно направился к боковой двери церкви, рядом с которой в час мессы обычно толпились нищие. Сейчас их было трое. Кажется, он их знал. Долго с ними разговаривал и, прежде чем продолжить свой путь в сторону улицы Эгалите, вынул и раздал купюры, которые, кажется, специально для них приготовил. Он даже обнялся с ними, прощаясь.
Я не стал следить за ним дальше и пошел своей дорогой. Не то чтобы я так уж торопился взяться за работу — закончить карточку могильщика с кладбища Сен-Аматр, а потом сделать три-четыре звонка и договориться о встречах с новыми жертвами картотеки (я смутно подумывал о бармене из «Филлоксеры» и фабриканте ароматизированных йогуртов из Шишери). Но — как бы это сказать? Что-то не ладилось. Я имею в виду с Соледад, разумеется. Я обещал не касаться этой темы, но, чтобы меня поняли, я все же должен упомянуть, что накануне она сделала нечто, отчего я порядком охладел (увы, ненадолго!) — нечто сексуальное (или, скорее, не слишком-то сексуальное), о чем я не расскажу. В своем отчаянии я думал об Эглантине как о последнем прибежище и уже решился ей позвонить — хотя бы только для того, чтобы узнать, что у нее нового, выздоровела ли она и тому подобное… Но когда я начал набирать ее номер, мне показалось, что рука у меня онемела, а трубка весит целую тонну. Я плюхнулся на диван в гостиной и включил телевизор. Это в одиннадцать-то утра! Бедный Кристоф!