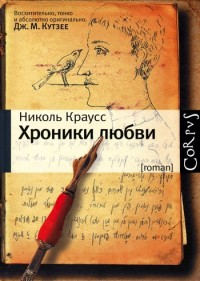Книга Большой дом - Николь Краусс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В этот момент я встал и попросил у миссис Фиске разрешения пройти в туалет. Свалившись у меня с коленей, черный вязаный спаниель мерзко подпрыгнул и покатился по полу. Пока шел, голова закружилась, мне стало дурно. Я запер дверь и плюхнулся на сиденье унитаза. В самой ванне стояла деревянная стойка, на ней сохли две или три пары колготок — из сморщенных коричневых ступней еще капала вода, — а прямо над ванной было затуманенное влагой окно. Я представил, как вылезаю через это окно и бегу по улице. Я свесил голову меж колен, чтобы остановить головокружение. Сорок восемь лет я прожил с женщиной, которая смогла хладнокровно отдать своего ребенка незнакомому человеку. С женщиной, которая разместила объявление о ребенке — родном ребенке! — в газете. Словно мебель выставила на продажу! Я ждал, что это новообретенное знание прольет абсолютный свет, даст окончательное понимание, распахнет дверь — а за ней будет кладезь правды. Но откровение на меня не снизошло.
С вами все в порядке? Голос миссис Фиске донесся откуда-то издалека. Что я ответил, не знаю, но помню, что несколько минут спустя она привела меня наверх, в комнатку с широкой кроватью, и я, не сопротивляясь, лег. Она принесла воды и наклонилась — поставить стакан на тумбочку. В этот миг, взглянув на ее шею, я вдруг вспомнил о собственной матери. Можно вас еще спросить? — произнес я. Она не ответила. Как он умер? Она вздохнула, сжала руки. Ужасно. Ужасная авария. Она ушла, бесшумно прикрыв за собой дверь, и только когда я услышал ее шаги — вниз по лестнице, все тише и тише, и стены вокруг начали медленно, почти лениво вращаться, я осознал, что лежу в комнате, которая принадлежала ему, сыну Лотте.
Я закрыл глаза. Как только приду в себя, поблагодарю миссис Фиске, попрощаюсь и вернусь домой, в Лондон, на ближайшем поезде. Я так думал, но одновременно сам себе не верил. Опять возникло смутное чувство, что наш дом в Хайгейте я увижу совсем не скоро, если вообще увижу. А ведь грядет зима. Придется коту поискать себе пропитание в другом месте. Все проруби покроются льдом. Что же таится там, на мягком илистом дне, что каждый день тянуло туда Лотте? Каждое утро она ныряла, спускалась, как Персефона в царство Аида, чтобы снова дотронуться до чего-то темного, неведомого. Она исчезала у меня на глазах! А я не мог последовать за ней. Вы хоть представляете, каково это, когда у тебя на глазах день, точно ткань, чуть надрывается, и любимая ускользает в эту щель, в черные глубины, одна. Всплеск — и вода снова неподвижна, и длится это целую вечность. Паника исподволь заползала за ворот и постепенно охватывала меня целиком. И как раз когда я окончательно решал, что Лотте ударилась головой о камень или сломала шею, зеркальная гладь разбивалась, и она выныривала, с посиневшими губами, и смаргивала воду с глаз. И каждый раз в ней появлялось что-то новое. По пути домой мы почти не разговаривали. Только листья шуршали, да сухие сучки хрустели у нас под ногами, как битое стекло. После ее смерти я туда больше не ходил.
Я проснулся. Наверно, прошло несколько часов. Снаружи снова смеркалось. Я лежал неподвижно, глядя на безмолвный прямоугольник неба. Потом повернулся к стенке. И тут же возник знакомый образ, кинокадр: Лотте в саду. Не уверен даже, что это сработала память — может, такого на самом деле и не было. В этом кадре Лотте стоит возле задней стены дома, не зная, что я смотрю из окна на втором этаже. У ног ее тлеет костерок, а она, склонившись, сосредоточенно пытается расшевелить огонь палкой или кочергой; на плечах — желтая шаль. Она то и дело подкидывает робким еще языкам пламени по листку бумаги или — не вижу сверху — трясет над костром то ли книгой, то ли блокнотом, и страницы падают в огонь. Дым поднимается лиловатым закрученным столбом. Что она жгла? Почему я тихонько смотрел из окна? Чем упорнее я пытался вспомнить, тем сильнее тускнела картинка и тем больше она меня волновала.
Мои ботинки стояли рядышком под стулом. Как я снимал их? Сам? Не помню. Обувшись, я разгладил кружевное покрывало и спустился по лестнице вниз. Когда я вошел в кухню, миссис Фиске стояла у плиты ко мне спиной. Сумерки за окном густели, но никто в это время обычно свет не включает. Она помешивала что-то в кастрюле, оттуда шел пар. Я выдвинул стул из-под кухонного стола, и она обернулась, раскрасневшаяся от жара плиты. Мистер Бендер! Пожалуйста, называйте меня Артуром, сказал я и немедленно пожалел об этом. Ведь она говорила со мной так искренне, так открыто именно потому, что я — посторонний, чужой человек. Она не ответила. Сняла с полки глубокую тарелку, налила в нее супу и вытерла руки о передник. Поставив передо мной тарелку, она села напротив, точь-в-точь как делала моя мама. Есть совершенно не хотелось, но выбора не было.
Миссис Фиске посидела молча, а потом снова заговорила. Я всегда думала, что она обязательно со мной свяжется. Разумеется, она знала адрес. Поначалу я боялась, что раздастся звонок или придет письмо, или она просто позвонит в дверь и скажет, что совершила ошибку и хочет забрать Тедди. По вечерам, укачивая его на руках или просто опасаясь скрипнуть половицей возле его кроватки, я молча молила о пощаде. Ведь она его отдала! А я — приняла. Я люблю его как родного! Но все же меня не покидало чувство вины. Он все время плакал: личико сморщит, ротик раскроет. Рыдал безутешно, понимаете? Врач говорил, что у него колики, но я не верила. Я думала, это он ее так зовет. Временами, от отчаяния, я начинала его трясти, кричала: замолчи! И он умолкал, то ли удивлялся, то ли пугался, но ненадолго. Посмотрит-посмотрит на меня черными глазами, упрямо так, а потом как завопит, еще громче прежнего. Иногда я выходила, хлопнув дверью, оставляла его орать. Сидела вот тут, на этом месте, зажав уши, но потом не выдерживала — боялась, что соседи услышат и скажут, что я плохо обращаюсь с ребенком.
Она так и не позвонила и не написала. Прошло месяца три или четыре, Тедди уже не так сильно плакал. Мы с ним вместе подобрали песенки и завели небольшие ритуалы, которые его успокаивали. В общем, худо-бедно нашли общий язык, стали понемножку понимать друг друга. Он научился мне улыбаться, криво и беззубо, но какой же радостью наполнялось мое сердце! Я почувствовала себя увереннее. Стала изредка вывозить его в коляске на улицу. Мы ходили в парк, и он спал там в тенечке, а я сидела на скамейке, почти как любая другая мать. Почти, но не совсем, потому что каждый день на крошечный миг, чаще всего в сумерках или после того, как я укладывала его спать и наливала себе ванну, но иногда без предупреждения, среди бела дня, когда мои губы касались его щечки, на меня вдруг накатывало: я — мошенница. Словно холодные липкие руки сжимаются на шее и — ничего вокруг уже не существует. Я — мошенница. Сначала меня переполняло отчаяние. Я ненавидела себя за то, что прикидываюсь матерью, ведь в этот миг меня точно ушатом ледяной воды окатывало, и я понимала, что настоящей матерью мне не стать никогда. Я его кормила, купала, читала ему книжки, но часть меня всегда находилась в другом месте — то ехала на трамвае где-то за границей, а по стеклу стучал дождь, то шла вдоль озера в Альпах, такого большого озера, что крик не долетал до другого берега и растворялся в тумане. У моей сестры детей не было, с молодыми матерями я почти не общалась. А тех, кого я знала, я бы никогда не осмелилась спросить, испытывали они когда-нибудь такие чувства или нет. Я считала это моей личной материнской недостаточностью, связанной с тем, что я его не зачинала и не рожала, а в итоге стала вообще считать себя недостойной материнства. Но что я могла поделать? Только растить его дальше. Никто за ним не приехал. У него была лишь я. И я отчаянно, не жалея времени и сил, старалась восполнить все, чего он был лишен. Тедди рос, казался довольным жизнью, но иногда в его глазах сквозило — или мне мерещилось, что сквозило, — какое-то неизбывное отчаяние, хотя потом, размышляя об этом, я никогда не могла с уверенностью сказать, действительно это было отчаяние или мальчик просто задумался. Взрослые ведь склонны считывать грусть-печаль с лица задумчивого ребенка.