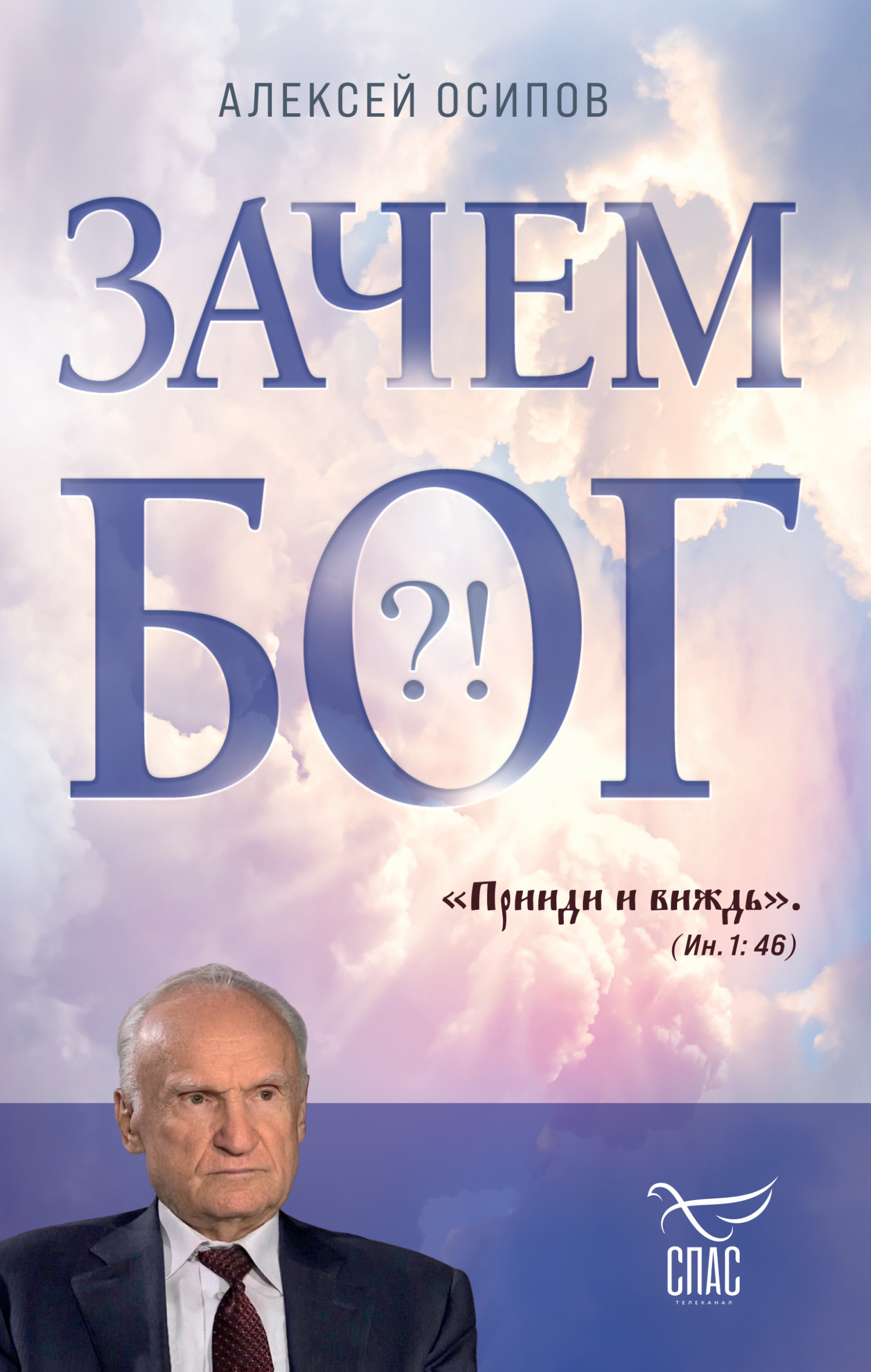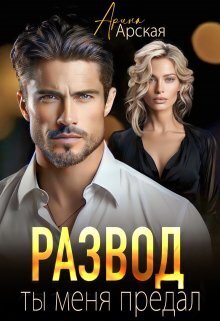Книга Всё, всегда, везде. Как мы стали постмодернистами - Стюарт Джеффрис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Перри Андерсон обвинил Хабермаса в «эвдемонизме разума и пораженчестве воли», предполагая, что он пришел к такому горькому выводу: «Не могло быть ничего, кроме капитализма. Постмодерн был приговором альтернативной иллюзии»[345].
Два других левых критика считали, что постмодернизм возник после исторического поражения левых в революционной борьбе конца 1960-х годов. Алекс Каллиникос в своей книге Против постмодернизма: марксистская критика утверждал, что постмодернизм отражает разочарование революционеров поколения, бунтовавшего в 1968 году, особенно во Франции, и включение многих его членов в новый профессиональный и управленческий средний класс[346]. На эту тему наиболее активно писали французские социологи Люк Болтански и Эв Кьяпелло, утверждая в книге Новый дух капитализма, что капитализм омолодился благодаря новой крови, высосанной, по иронии истории, как раз из тех, кто пытался сокрушить его, строя баррикады в 1968 году.
Для Каллиникоса постмодернизм был не столько интеллектуальным или культурным феноменом, сколько симптомом политической фрустрации. Терри Иглтон развил эту тему в своей книге 1996 года Иллюзии постмодернизма, утверждая, что рост его популярности нельзя полностью объяснить поражением, которое политические левые потерпели в конце 1960-х годов. Постмодернизм, по мнению Иглтона, вызвал настоящую революцию в представлениях о власти, желаниях, идентичности и теле, которые должна принимать во внимание любая радикальная политика; но он не желал принимать то, что считал «его культурным релятивизмом и моральным конвенционализмом, его скептицизм, прагматизм и узость интересов, его отвращение к идеям солидарности и организации, к дисциплине, отсутствие какой-либо адекватной теории политического действия»[347].
Наиболее частым обвинением в адрес постмодернизма — как слева, так и справа — будет обвинение в культурном релятивизме. По мнению Иглтона, теоретики постмодерна «произвели <…> мощный парализующий скептицизм и свергли суверенитет западного человека, по крайней мере теоретически, с помощью абсолютного культурного релятивизма, который бессилен защитить западную или восточную женщину от унижающих достоинство социальных практик»[348].
Проблема здесь, как мне кажется, в том, что критика постмодернизма Иглтоном создает «соломенное чучело», подмену тезиса. Ричард Рорти отлично уловил это: «„Релятивизм“ — такой взгляд на вещи, при котором всякое убеждение в чем-либо — или даже в чем угодно — столь же приемлемо, как и всякое другое. Такого взгляда не придерживается никто. За исключением случайно попавшего в вуз недоумка-первокурсника, никто не согласится с утверждением, что два несовместимых мнения об одной и той же вещи могут быть равно верны. Философы, которых называют „релятивистами“, — это те, которые утверждают, что основания для выбора между такими несовместимыми мнениями гораздо менее подчинены алгоритму, чем обычно думают»[349].
Не существует такого человека, как культурный релятивист, который признавал бы, что его или ее ценности не лучше, чем у других.
И всё же для критиков постмодернизма его предполагаемый релятивизм был его самым серьезным недостатком. «Серьезно, — проворчал великий лингвист Ноам Хомский, — каковы принципы их теорий, на каких доказательствах они основаны, что такое они могут объяснить, что бы не было уже давно очевидным, и т. д.? Это справедливые требования для кого угодно. Если они не могут на них ответить, я бы посоветовал прибегнуть к совету Юма в аналогичных обстоятельствах: в топку»[350]. Хомский был возмущен утверждением постмодернистов о том, что не существует таких вещей, как истина и объективность, есть только сила и интересы. Но ярость Хомского направлена не в ту сторону. Сжигать книги — не самый лучший способ утвердить свои аргументы в споре. Лучшей тактикой будет насмешка. Рассмотрим, предложил презирающий постмодернизм философ Дэниел Деннет в своей статье 1998 года Постмодернизм и истина, следующую историю. Группа американских исследователей непреднамеренно заносит в страну третьего мира, которую изучает, опасный вирус. Этот вирус приводит к ухудшению здоровья женщин, повышает уровень детской смертности и при этом укрепляет власть правящего там тирана. Эти исследователи наверняка должны понести наказание за свой поступок. Вовсе нет, отвечают они. Их критики, утверждают они, пытаются навязать «западные» стандарты той культурной среде, в которой они не используются[351]. Но в рассказе Деннета не всё так просто. Эти исследователи — не биологи, химики или врачи, это «постмодернистские критики науки и другие мультикультуралисты, которые утверждают <…> что западная наука лишь один из множества равнозначных нарративов и не должна иметь „привилегий“ в конкуренции с местными традициями, которые другие исследователи — биологи, химики, врачи и т. п. — пытались ею заменить. Вирус, который они занесли в эту страну, был не макромолекулой ДНК, а мемом (самовоспроизводящейся идеей): идеей о том, что наука является „колониально“ навязанной извне, а не достойной заменой тех традиционных практик и верований, которые, собственно, и привели страну третьего мира к ее нынешнему состоянию»[352].
Но наука, утверждает Деннет, не навязана колониально извне и знания не относительны, а поиск истины не является подозрительной деятельностью, маскирующей стремление к власти. Однако мыслители постмодернизма, утверждает он, проповедуют именно такую нелепицу.
Деннет предложил три неоспоримые истины: жизнь впервые возникла на этой планете более трех миллиардов лет назад; во время Второй мировой войны случился Холокост; Джек Руби застрелил Ли Харви Освальда в 11:21 утра по далласскому времени 24 ноября 1963 года. «Это истинные утверждения о событиях, которые действительно произошли. Их отрицание будет ложью. Ни один здравомыслящий философ никогда не думал иначе, хотя в пылу полемики они иногда делают заявления, которые можно было так истолковать», — заключил Деннет[353]. Возможно, это и так, но многие философы — некоторые из них даже здравомыслящие — беспокоились о том, кто будет решать, что считать истинным, а что ложным. Для них истина не была невинна, но была связана с борьбой за власть.
В эпоху постмодерна Мишель Фуко подробно разъяснил, что означает эта борьба за истину, предположив, что то, что считается истинным, переходит от одного общества к другому; «Каждое общество имеет свой режим истины, свою „общую политику“ истины, то есть типы дискурса, которые оно принимает и заставляет функционировать как истинные; механизмы и примеры, позволяющие различать истинные и ложные утверждения, средства, с помощью которых каждое из них санкционируется; методы и процедуры, с помощью которых придают значение в процессе обретения истины; статус тех, кому поручено говорить то, что считается истиной»[354].
Ясно, что в этом что-то есть. Люди, живущие в режиме истины, отличном от нашего, могли бы признавать, что Солнце вращается вокруг Луны. Католики давно признали, что Бог создал мужчину и женщину и что вторые были созданы, чтобы служить первым. Британские империалисты вполне могли считать аксиомой, что они интеллектуально превосходят покоренные ими народы. Ни одно из этих