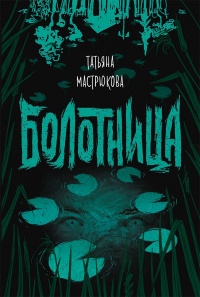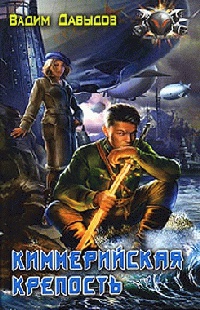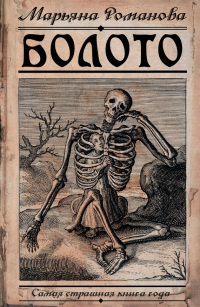Книга Пение пчел - София Сеговия
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Симонопио?
– Ага, – с облегчением ответил тот, увидев, как крестный опускает револьвер.
– Чего ты тут бродишь среди ночи?
Обычно Симонопио на такие вопросы не отвечал – на это ему понадобилось бы куда больше слов, чем простое «ага». Как объяснить крестному, что ему было нужно время побыть наедине с собой? Что он вернулся и уже не уйдет, больше никогда не оставит его одного? Попытайся он пробормотать отдельные слова, Франсиско Моралес-старший ничего бы не понял, поэтому он лишь повторил свое «ага», кивнув в сторону комнаты Франсиско-младшего.
– Уснул. Ты же знаешь, как быстро он засыпает…
– Ага, – снова откликнулся Симонопио, поворачиваясь спиной, чтобы войти в комнату.
– Ладно, как хочешь. Спокойной ночи.
Уже возле спальни ребенка Симонопио вновь наступил на сломанную плитку. Он повернулся к Франсиско, чтобы извиниться, но тот уже запер за собой дверь спальни. Симонопио очень не хотелось будить неосторожным движением крестную. Он знал, какой ценой достались ей эти дни, и не сомневался, что уснула она с трудом. Зато за Франсиско-младшего он не беспокоился: того из пушки не разбудишь. Он легонько потряс его за плечо, чтобы сказать, что вернулся: «Ты позвал меня, и я пришел, я исчез всего на несколько дней», – но по опыту знал, что никто и ничто не способно заставить мальчика открыть глаза, пока тот не будет готов открыть их сам. Франсиско-младший спал крепко, каждую ночь он отдавался своим снам доверчиво, не ведая страха оказаться там, куда так боялся упасть Симонопио.
Симонопио уселся в кресло, то самое, сидя в котором четыре года назад рассматривал лежавшего в колыбельке новорожденного. Мальчик давно уже в ней не умещался: второй год он спал в детской кроватке, потому что из колыбельки норовил выбраться, перелезал через деревянные прутья и грохался на пол, приземляясь иногда на попу, в другие разы на коленки, случалось (и, к счастью, реже – слава Богу и ангелу-хранителю, что все обошлось, приговаривала шепотом его мать), на голову. Деревянные прутья казались мальчику не защитой, как когда-то маленькому Симонопио, а тюремной решеткой, ограничивающей его свободу.
Свет нарождающегося утра брезжил в окошке и вскоре заполнил собой комнату. В это неповторимое мгновение Симонопио едва моргал, различая в золотистом сиянии, осветившем личико Франсиско-младшего, младенца, которым тот был когда-то, и мужчину, которым когда-нибудь станет, – и все это одновременно. Младенца он различал отчетливо, на помощь подоспели воспоминания, но взрослое лицо ускользало: он видел лишь обещание, но не определенность.
Он понял, что пришло время научить его большему. Франсиско-младший уже не был младенцем, но, чтобы стать мужчиной, ему предстояло многое понять, и Симонопио готов был этим заняться. Мысленно он поклялся, что больше не оставит его одного. Мальчик открыл глаза, словно что-то почувствовал.
– Ты вернулся?
Франсиско-младший с трудом стряхивал с себя глубокий сон, но, увидев сидевшего рядом Симонопио, озаренного мягким утренним светом, пронзившем множество мельчайших пылинок, что плясали в воздухе, едва поверил собственным глазам. Ему казалось, что Симонопио лишь порождение его фантазий.
– Вернулся. И больше никуда без тебя не уйду.
Никакие другие слова не требовались. Франсиско-младший ему поверил.
В шесть лет настало время продолжить мое образование и отдать в настоящую школу. Не то чтобы я этого хотел, но по-другому и быть не могло. В школу меня отводил Симонопио, который шел пешком, в то время как я ехал верхом на моей лошадке – старой, коренастой и неторопливой, которую по моему настоянию назвали Молния. Уверен, что Симонопио с радостью катал бы меня на собственном загривке, как в детстве, когда он всюду таскал меня на плечах, но папа не позволил.
– Испортишь себе спину, Симонопио, а мальчишка так и не научится быть самостоятельным. Пусть добирается сам.
Папа был прав: я ходил самостоятельно куда угодно, кроме школы, так что скоро стало очевидно, что я нисколько не стремился являться туда вовремя. Норовя опоздать, останавливался на каждом шагу, чтобы рассмотреть гусеницу или камешек на дороге, потихоньку развязывал шнурки на ботинках, чтобы Симонопио наклонялся и их завязывал, и так бессчетное количество раз, внезапно усаживался в тени какого-нибудь придорожного дерева передохнуть и вытянуть якобы усталые ноги. В итоге, чтобы избежать лишних конфликтов и добираться быстрее, мне разрешили ездить верхом на Молнии.
По дороге в школу Симонопио успевал обучать меня предметам, которые в его школе жизни были важнее общеобразовательных. Если сам я потихоньку выучился читать и решал простые арифметические задачки, Симонопио учил меня слышать и видеть мир таким, каким он его воспринимал. Я не разобрал пения пчел и не научился различать запахи так, как умели пчелы, не научился предугадывать, что ждет за поворотом дороги, даже не пытался «увидеть» маму в то время, пока меня не было дома, или почувствовать, что где-то, куда не достает мой взгляд, притаился койот, напряженно выжидая. Сам я ни разу не видел койота, потому что, как только Симонопио чувствовал, что он где-то рядом, мы сразу же прятались и неподвижно замирали или шли по другой дороге. «Давай посмотрим на него, – в ужасе шептал я, – надо же мне знать, как он выглядит». Но Симонопио всегда был против. «Чем меньше ты его видишь, тем меньше он видит тебя».
На этом уроки Симонопио не заканчивались: он учил меня видеть с закрытыми глазами и вспоминать, что случится на следующий день, но я, с трудом помнивший даже то, что случилось накануне утром, вообразить не мог, что значит вспомнить то, чего еще не произошло. Однажды он попросил меня увидеть день моего рождения, вспомнить первые ощущения на коже, первые звуки в ушах, первые образы, заполнившие мои глаза. Все тщетно. Как бы я ни старался, мне удавалось расшифровать лишь то, что произошло только что. «Здесь недавно прошла лошадь», – торжественно сообщал я. Я никогда его не обманывал: любой дурак мог догадаться, что упомянутая лошадь действительно прошла по этой дороге, к тому же опорожнила кишечник, избавившись от его ароматного содержимого.
Я знал, что становлюсь для бедного Симонопио постоянным источником разочарования, и, чтобы хоть чем-то его порадовать – то есть стать чуточку похожим на него, – старался изо всех сил. Но поскольку мне еще не было и семи, а ребенком я был очень шебутным, мне с величайшим трудом удавалось оставаться неподвижным длительное время, особенно когда меня то и дело кусали комары, съедавшие заживо по ночам из-за того, что спал я с открытым окном; когда после падения на колючую опунцию у меня болела задница; когда крутило живот от съеденной на завтрак яичницы с чоризо; когда я знал, что меня накажут за невыполненное домашнее задание; когда понимал, что день-деньской просижу за учебниками и тетрадками вместо того, чтобы вместе с Симонопио исследовать мир, полный приключений, запахов и впечатлений; когда куда более важным казалась его очередная история о льве и койоте. А главное, я не понимал, зачем он пытается преподать мне столько всего.