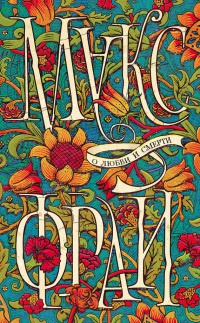Книга Львовский пейзаж с близкого расстояния - Селим Ялкут
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Два дня мы жили у тети Гали. Галя — большая отечная старуха бестолково бродила ночью по дому. Дом был старый, гулкий и пустой, привык жить без людей, заполняя тишину потусторонними шорохами. Грызунов не было слышно, и, согласно известной примете, дом напоминал корабль, прочно севший на мель, без всякой перспективы вновь отправиться в плавание. В нашей комнате стояли две кровати с проседающими до пола металлическими сетками, был фанерный стол, исчерканный шариковыми авторучками, два стула и смутно белеющая печь в дальнем углу, отделенная пространством ночного безмолвия. Зимой здесь квартировали студенты сельхозучилища. Галя вздыхала где-то далеко в коридоре и роняла металлическую посуду. Большое зеркало тускло отражало всю ее жизнь. Вечерами она засиживалась у нас.
При поляках молодая Галя работала в шахте, грузила вагонетки. Труд был тяжелый, поляки требовали работу, платили мало. Таков был здешний капитализм. Когда в тридцать девятом пришли Советы, Галя быстро пошла в гору. Брала у секретаря машину, гоняла в село, стала активисткой, но умеренной, особо не выделялась. При немцах она попала на фабрику. Таскала мешки, охрана реготала, свои же местные хлопцы, пристроившиеся при немцах. Галя помалкивала. Как-то проходила на восток воинская часть, встали рядом, буквально на час, ждали приказа, офицер поглядел, переговорил сердито. Еще куда-то сходил, в общем, употребил время по немецки, с пользой. И Галю перевели в немецкий госпиталь, разносить раненым пиво. Отпускали девушек пораньше, чтобы успели вернуться домой до комендантского часа. Она бы прокормила себя и без госпиталя (так она потом объясняла), но мать болела, работа была кстати. Как-то на улице к ней привязался пьяный немец. Хватал за руки. Тащил жениться, так он обещал. Галя в девицах состояла. Лупила немца, а сама кричала, рятуйте. Хитрая была и теперь вспоминает со смехом. Немца забрал патруль, не церемонясь, а ее отпустили. Два слова по немецки она знала, могла объяснить. Евреи? А что евреи? Постреляли их тогда много. Ну и что. Каждый жил сам по себе. И она в ту сторону не смотрела. А до того местных учителей побили, интеллигенцию. Время было такое, живи, голову не поднимая. И пронесет, дай Бог. После войны она вновь пошла на службу к Советам. Ездила в село, переписывала, кто, чем занимается. Уже замужем была за агрономом. Как-то бандеровцы входят в хату. Она — активистка по ихнему, сидит за столом. Спросили, кто такая, почему здесь. Люди не выказали. Отношения к бандерам были разные, не так, как сейчас говорят. Все — за. Или раньше — все против. У нее на бандер был зуб. Брат двоюродный служил при немцах переводчиком. Поехал за спиртом. Бандеры вышли из леса, спирт забрали. А брату накинули веревку на шею и вдвоем затянули зашморгом, так здесь делалось, чтобы без шума. Сгубили на глазах фурмана (возчика), того прогнали, а брата закопали неизвестно где, она и похоронить не смогла.
Потом жизнь наладилась. Дешевле, чем сейчас. Даже сравнить нельзя. В Москву съездила. А чого? Дочь в Тернополе институт закончила, математику преподавала в Одессе. В русской школе. Теперь торгует на рынке. На пенсии, конечно, но разве на пенсию проживешь. Муж из Котласа, без образования, детей двое. А сюда приезжает, мама, поживи еще, может, дом сгодится. Постереги. А что тут стеречь? Она этим говорит, полицаям новым, форму им пошили взамен милиции, ходят парами. — Вы, конечно, поляки. — Чому это? — Тому шо, вон пьяный лежит, ноги на самом шляху, а когда машина наедет. Так шо, удвох поднести нельзя на тихое место? Не, вы, хлопцы, не наши, не украинцы… Она до сих пор задиристая. Те зареготали, пьяничку подняли, положили на лавку. Лекарств нет, но она и раньше не пользовалась. Знает, когда давление, лежит, не встает. Недавно в Почаев съездила, взяла иконку Николая Угодника, водички набрала. И так отпускает. Что ей эти гроши. Всех не соберешь. Хотя теперь, куда без них. Но поговорить вот так, посидеть, мужа вспомнить. Жить совсем не хочется. Может, ребята, картошки вам сварить? Без денег, своя ведь, за деньги нельзя, соромно. И живите, сколько хотите, я ничого не возьму. Одной плохо…
История Кременца напоминает историю честолюбивого бедняка, которому судьба никак не дает случая выбиться в люди. Учитывая обилие богослужебных заведений, так и должно быть, праведная жизнь не столько вознаграждает, сколько испытывает, по крайней мере, в обозримой перспективе.
Несколько столетий городом распоряжались поляки, и почти всем, что сохранилось сегодня в городском пейзаже, город обязан им. Прервали идиллическую историю козаки, они накатили на эти места в семнадцатом веке. Поляки защищались отчаянно, но козаки захватили Кременец и Боню. В местном музее есть панорама, запечатлевшая исторический приступ. Козаки и местные крестьяне со страшными лицами лезут на крепостную гору. Навстречу летят облитые смолой горящие бревна, судьба города еще не решена. Похоже, автор макета испытывал противоречивые чувства и переживал за всех сразу. Крестьянские войны тянутся мучительно долго, площадь под ними выгорает как при лесном пожаре. Ярость растворяется в фольклоре и эпических могилах. На здешних еще в конце девятнадцатого века находили козацкие люльки. По преданию, люльку клали в изголовье убитого. Потом историю залихорадило и люльки находить перестали. А само козацкое кладбище из-за угрозы эпидемий закрыли в конце того самого девятнадцатого века.
От места к месту пространство и время наделены своей особенной плотностью, цивилизационной емкостью, энергией прошлых поколений, обменом веществ общественного организма, конфликтами, войнами, революциями и, наконец, тем, что составляет просто жизнь, ее течение, ход и последующие суждения крепких задним умом историков. Может быть, именно потому, что жизнь продолжает длиться, здешние места выглядят достаточно скромно.
В середине теперь уже прошлого века здесь была короткая (по историческим меркам), но яростная схватка с бандеровцами. Леонид Павлович ее помнит. Допрашивали бандеровцев при конвое, люди здоровые, могли наброситься. Искать сбежавших было трудно, им многие сочувствовали. Работники МГБ ходили по городу в цивильных пальто поверх формы. Такова была инструкция. Руки постоянно держали в карманах, на пистолете. Такой ТТ со звездой на пластмассовой рукояти был у отца Леонида Павловича. Напали ночью двое, переднего он застрелил сквозь пальто, задний ударил в шею шилом, но попал в целлулоидный воротничок на мундире и мышцу плеча. Отец лечился, руку разрабатывал.
Другой раз вышли из-за дома. Тоже ночью, когда человек становится неясной тенью, внезапно перегородили дорогу. Отец — опытный, остановился, приказал подойти, увидел, как те дернулись, укрылись в темноте. Сзади караулил еще один. Что они не сбежали после окрика, убеждало, это не обычные грабители, те не стали бы рисковать. Но крестьянские дети поторопились, не подпустили ближе. Он выстрелил на звук, наугад, втиснулся спиной в щель, затаился. Глаза привыкали к темноте. Зашумели снизу улицы, затопал патруль. Он еще стрелял наугад на звук удаляющихся шагов, не попал.
Убили его уже майором. Леонид забежал к отцу на службу, он иногда заскакивал по дороге из школы. Охрана его хорошо знала. Время было почти мирное, партизанская война заканчиваоась. С опасностью свыкаешься, не только война, но и власть, отец научился ею пользоваться. Ждал перевода в большой город, по крайней мере, был такой разговор с матерью. Леонид влетел в кабинет без спроса. Здание хорошо охранялось, но люди шли разные и по разному поводу. И этот человек, по видимому, бывал здесь прежде. На столе, рядом с чужим портфелем, лежали деньги, много денег, отец сидел за столом напротив, а прямо перед Леонидом каменела широкая спина. Человек так и не оглянулся, держался уверенно, длилось какое-то мгновение. Отец гаркнул, вон отсюда. А тот, что спиной, будто не заметил, еще раз повторил: — Якшо не домовимось, пожалкуете.