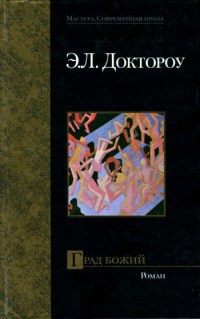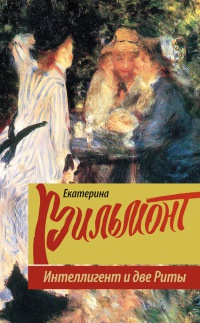Книга Божий мир - Александр Донских
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Уже под самое утречко хозяева уложили гостей на лучшие топчаны, сами же приютились кто в дровяной сараюшке, кто на чердаке в сене. Капитан Пономарёв возразил было, «забуянил» даже, да на него замахали руками, зашикали и – в мгновение ока скрылись куда-то.
Расставаясь в полдень после сытного мясного обеда и пары кружек бражки, и обнялись, и подолгу жали руки, и напутствий сколько было сказано, будто знакомы неподсчитанное число лет или впрямь ближайшие родственники.
* * *
К вечеру того же дня караван наконец-то добрался до стойбища, где, по заверению Виктора, должен был находиться Михаил, однако его не оказалось там. Пастух, древний старик тоф, иссохший, бронзовато-серый, как камень, глубоко и отрешённо промолчал, когда его спросили о Михаиле. Старик со скрещенными под собой ногами одиноко сидел возле чума у костра, чуть покачиваясь маятником, держа во рту слабо дымящуюся трубочку. Его тело, хотя и какое-то полумёртвое, было величаво прямо, но в изношенных, слезящихся глазах – тьма. Однако та тьма, о которой капитан Пономарёв сразу и отчётливо подумал, – «светлая тьма».
«Светлая тьма? Разве может быть тьма светлой? Чудно́!»
«Он воин Чингисхана, – подумалось следом, и хотелось дальше так же высоко и необычно размышлять. – Для него, наверное, нет времени, нет меня с Виктором. Он житель Вселенной…»
И снова, как все эти дни, как, быть может, каждое мгновение его пребывания на этой земле, нечто удивительное произошло с капитаном Пономарёвым: уже не глубоко в нём, а совершенно близко, словно бы на поверхности души он уловил чувство – не за беглецом он приехал сюда, не по служебной надобности, а – за чем-то иным, пока что неведомым, но исподволь обвевающим душу светом и теплом.
«Уж не за судьбой ли своей я припожаловал сюда?» – И – опять «понарошку» – покривились его губы: понимал, что вот так, с осознанной наивностью, наружно противился своей душе.
Виктор смущённо и деликатно покашлял в кулак, отвлекая своего спутника от задумчивости:
– Братка, видать, где-нибудь недалече запрятывается. Пацан ведь он ещё, трусит, сами понимаете. Не беспокойтесь, товарищ капитан, мы его обязательно отыщем. Но скоро ночь – повременим до утра?
Капитан Пономарёв не ответил, но зачем-то спросил:
– Сколько лет старику?
– Никто не знает. И сам он не знает. У нас в оны годы так водилось – не считай лета: сколько тебе отмеряно – без остатка будет твоё, хоть считай, хоть не считай.
– Счастливый, видно, человек этот старик.
– Да кто ж знает, что такое счастье.
Капитан Пономарёв молча и неопределённо покачнул головой, забрался в чум, отказавшись поужинать («Не от самого ли себя прячусь?»), завалился на мягкие, кисловато-прелые оленьи шкуры. Зачем-то вслушивался в комариные звоны, присматривался к пощёлкивающим и вздыхающим в костре головням. Что ещё ждёт и ищет его пробудившаяся к какой-то новой жизни душа, что ещё хочет познать она?
Уже темно, надо бы спать. Виктор задремал, и старик тихонько посапывал, а капитан Пономарёв и с головой укрывался медвежьей шкурой, и считал про себя, но сон не приходил. За всю ночь так и не уснул крепко, маялся. Понимал и страшился: неумолимо близится тот час, та минута, когда надо будет сказать самому себе: я поступлю вот так, и никак иначе.
Бессонница вымотала; наконец, выкарабкался на волю. Знобко, но живит. На земле и в небе великая первозданная тишина – тишина и жизни и смерти, тишина и ожидания и беспросветности одновременно. Оцепенели до последнего своего листика или хвоинки деревья; только сонно и вяло пофыркивали за кустами олени. Где-то вдалеке, наверное, за той гребневатой могучей скалой, тревожно угугукнула птица, но бдительное безмолвие ночи тотчас пропитало собою округу, придавливая расстраивающие гармонию звуки. Небо чёрное, густое, однако у маковки сопки, похожей на шлем, виднелась огнисто белая полоска, и капитан Пономарёв не сразу догадался, что светил тоненький народившийся месяц. Звёзд негусто, они иногда вспыхивают, как бы вылетая из-под крадущихся по небу облаков. Терпко пахло увядавшей листвой и травой подступающей осени.
Грустно, очень грустно, душа томится, как скованная. Снова вспомнилась заброшенная людьми дорога. «Да сколько можно!» Сами собой сжимаются зубы, хочется застонать или выругаться крепче.
Капитан Пономарёв понимает, что какая-то неведомая и, не постигнуть, добрая или недобрая – попробуй-ка разберись! – сила уже выбила его из привычного строя жизни, сорвала устоявшиеся представления и привычки.
«Понимаю то, понимаю другое, а – как жить-то теперь прикажете?!»
Исподволь начиналось утро, развиднялось. Месяц унырнул за скалистую горбину сопки. Седовато и робко забелели облака. На снежные главы гольцов и скал пали первые солнечные паутинки света нового дня. Капитан Пономарёв подошёл к стаду оленей, которых была тьма на пастбище. Они лежали кучками, вроде как семьями. Забеспокоились, завидя чужака, стали потряхивать чуткими ушами, вытягивать шеи, ловя сырыми трепетными ноздрями какие-то запахи. Погладил жёсткую, росную спину оленя, на котором столько дней добирался в стойбище. Олень, однако, вздрогнул, вскочил с мягкого мха и, не взглянув на человека, величаво-медленно отошёл за соседнюю ель.
– Экий ты дуралей, – поругал капитан Пономарёв с нежностью. – Не признал меня? Рассердился, что разбудил тебя? Ну, прости, брат, прости.
Олени стали приподыматься, вертеть рогатыми головами и коситься на непрошенного гостя драгоценно горевшими перламутром глазами.
Капитан Пономарёв опустился на первую подвернувшуюся корягу и час-другой просидел на ней, размышляя о совершенно невероятном для себя, – надо навсегда поселиться в приглянувшейся ему Говоруше, никогда никем не командовать, а трудолюбиво, размеренно, тихо жить, просто жить.
«Просто жить? Но как это?»
К нему подошёл Виктор и пристроился рядышком. Закурили, хотя – хотелось ли? Молчали, потому что невозможно и незачем было говорить: всходило солнце. Оно как-то внезапно, будто зверь, появилось в ущелье между двумя отвесно срезанными скалами, ударило в глаза густыми красными брызгами лучей. Представилось, что бруснику из шалости раздавили в кулаке и прыснули в лицо. Роса стала рдяно переливаться на каждом листе, на траве, хвое. Олени повернули головы к солнцу. Трубно, властно заревел бык-вожак, высоко вскинув голову с ветвями толстых, мощных рогов. Стадо забеспокоилось и, погоняемое пастухом и ведомое своим величавым вожаком, тронулось в путь – к свежему, ещё не топтанному ягелю за рекой; но к вечеру олени вернутся.
– Пойдёмте, товарищ капитан, поищем Мишку, – вполголоса, на полдыхании предложил Виктор. – Он, наверное, недалече. Тут повсюду приткнулись чумы и шалаши.
Капитан Пономарёв качнул головой так, будто уронил её.
Но оба не поднялись; молчали, смотрели на солнце и оленей.
Шумно, с клацаньем раздвоенных копыт неспешно удалялось стадо. Оно валило размашистым лавинным потоком. За отбившимися оленями хозяйственно гонялись прыгучие, вездесущие лайки.