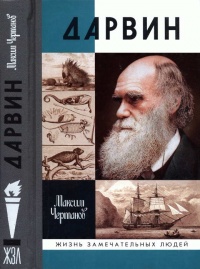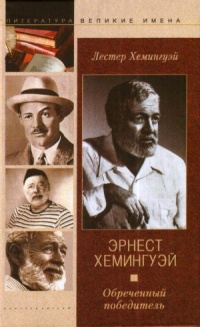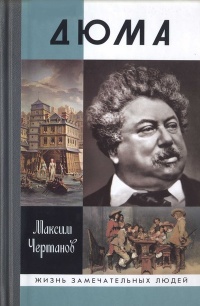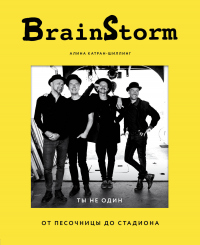Книга Хемингуэй - Максим Чертанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Завершив редактуру, в первых числах июля он отправился в Пиготт, где уже месяц жили Полина и дети, захватил жену, поехал в Вайоминг, на ранчо Нордквиста. Охотничий сезон еще не открылся, ловили форелей, ездили верхом. Приезжали Мерфи — по-прежнему прекрасные отношения, никакой вражды. В конце сентября Полина отбыла в Пиготт, а в Вайоминг приехал Чарльз Томпсон, появились и другие охотники, стреляли лосей, медведей. По свидетельству Томпсона, его друг временами «казался одержимым»: выходил из себя, если чья-то добыча оказывалась крупнее его собственной, все время говорил о самоубийстве (сказал, что покончит с собой не задумываясь, если будет неизлечимо болен), слишком много пил. 16 октября он, уже зная о реакции критики на вышедшую «Смерть», уехал в Ки-Уэст, но жену не застал — она вернулась в Пиготт, потому что жившие у бабушки с дедушкой дети заболели, — зато обнаружил присланного из Парижа Бамби — у него плохо шла учеба и Хедли решила на зиму оставить его с отцом, где с ним будет заниматься приглашенный специально для этого Эван Шипмен. Но в октябре Шипмен еще не приехал. Отец с сыном отправились в Пиготт — там заболел и Бамби. Из этой болезни родился трогательный рассказ «Ожидание» (A Day’s Wait). «Я сел около кровати, открыл книгу про пиратов и начал читать, но увидел, что он не слушает меня, и остановился.
— Как по-твоему, через сколько часов я умру? — спросил он.
— Что?
— Сколько мне еще осталось жить?
— Ты не умрешь. Что за глупости!
— Нет, я умру. Я слышал, как он сказал сто два градуса.
— Никто не умирает от температуры в сто два градуса. Что ты выдумываешь?
— Нет, умирают, я знаю. Во Франции мальчики в школе говорили, когда температура сорок четыре градуса, человек умирает. А у меня сто два.
Он ждал смерти весь день; ждал ее с девяти часов утра.
— Бедный малыш, — сказал я. — Бедный мой малыш. Это все равно как мили и километры. Ты не умрешь. Это просто другой термометр. На том термометре нормальная температура тридцать семь градусов. На этом девяносто восемь.
— Ты это наверное знаешь?
— Ну конечно, — сказал я. — Это все равно как мили и километры. Помнишь? Если машина прошла семьдесят миль, сколько это километров?
— А, — сказал он.
Но пристальность его взгляда, устремленного на спинку кровати, долго не ослабевала. Напряжение, в котором он держал себя, тоже спало не сразу, зато на следующий день он совсем раскис».
В Пиготт после приезда Хемингуэя, подобно магниту притягивавшего неприятности, случился пожар, пропали многие книги и вещи, но дети выздоровели, и он мог спокойно работать. Завершил начатый ранее рассказ «Там, где чисто, светло» (A Clean Well-Lighted Place): 80-летний одинокий старик ежевечерне сидит в кафе, а два официанта обсуждают его:
«— А я вот люблю засиживаться в кафе, — сказал официант постарше. — Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет.
— Я хочу домой, спать.
— Разные мы люди, — сказал официант постарше. Он уже оделся, чтобы уходить. — Дело вовсе не в молодости и доверии, хоть и то и другое чудесно. Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе потому, что кому-нибудь оно очень нужно.
— Ну что ты, ведь кабаки всю ночь открыты.
— Не понимаешь ты ничего. Здесь, в кафе, чисто и опрятно. Свет яркий. Свет — это большое дело, а тут вот еще и тень от дерева.
— Спокойной ночи, — сказал официант помоложе.
— Спокойной ночи, — сказал другой.
Выключая электрический свет, он продолжал разговор с самим собой. Главное, конечно, свет, но нужно, чтобы и чисто было и опрятно. Музыка ни к чему. Конечно, музыка ни к чему. У стойки бара с достоинством не постоишь, а в такое время больше пойти некуда. А чего ему бояться? Да не в страхе дело, не в боязни! Ничто — и оно ему так знакомо. Все — ничто, да и сам человек ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света, не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это ничто и снова ничто, ничто и снова ничто. Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто. Ничто и снова ничто».
«Там, где чисто, светло» относят к лучшим рассказам Хемингуэя, и, как все его лучшие рассказы, он может быть истолкован по-разному. Один назовет его печальным, но светлым: существует человек, которому «не хочется закрывать кафе, потому что кому-нибудь оно очень нужно» и, хотя самому этому человеку некуда деваться, он помогает другому одинокому; другой увидит жестокую иронию — ведь то подобие покоя, что обретают одиночки, слоняющиеся по кафе, так жалко…
Написал еще рассказ, также относимый к шедеврам: «Отцы и дети» (Fathers and Sons): критики трактуют его как признание в сыновней любви, которого Кларенс не успел услышать: «Как и все люди, обладающие какой-либо незаурядной способностью, отец Ника был очень нервен. Сверх того, он был сентиментален, и, как большинство сентиментальных людей, жесток и беззащитен в одно и то же время. Ему редко что-нибудь удавалось, и не всегда по его вине. Он умер, попавшись в ловушку, которую сам помогал расставить, и еще при жизни все обманули его, каждый по-своему. Сентиментальных людей так часто обманывают. Пока еще Ник не мог писать об отце, но собирался когда-нибудь написать, а сейчас перепелиная охота заставила его вспомнить отца, каким тот был в детские годы Ника, до сих пор благодарного отцу за две вещи: охоту и рыбную ловлю. Отец возвращался к нему осенью или ранней весной, когда в прерии появлялись бекасы, или когда он видел кукурузу в копнах, или озеро, или лошадь, запряженную в шарабан, когда он видел или слышал диких гусей, или когда сидел в засаде на уток…»
Рассказы этого периода мягче и светлее обычного, но без темы смерти не обходилось — вот диалог между взрослым Ником и его маленьким сыном:
«— Когда ты умрешь, хорошо бы жить где-нибудь поближе, чтобы можно было съездить помолиться к тебе на могилу.
— Придется об этом позаботиться.
— А можно всех нас похоронить в каком-нибудь удобном месте. Например, во Франции. Вот было бы хорошо!»
Заметим попутно, что сын спрашивает, когда его научат охотиться, и отец отвечает: «Когда тебе будет двенадцать лет, если я увижу, что ты умеешь быть осторожным» — возможно, при всей благодарности собственному отцу за привитую любовь к охоте, Хемингуэй все же чувствовал, что три года — рановато.
Накануне Нового года семейство вернулось в Ки-Уэст. Прибыл Шипмен: жена, дети, прислуга были им очарованы, называли «нежным и заботливым», на него можно было оставить семью. В конце января Хемингуэй был в Нью-Йорке по издательским делам, Перкинс свел его со своим новым протеже Томасом Вулфом, надеялся, что два «сынка» подружатся, но из этой затеи ничего не вышло. Познакомился с литератором Арнольдом Гингричем, который собирался издавать журнал «для мужчин» и предлагал сотрудничество — отказался, так как Гингрич не понравился (они подружатся позднее). Был также обед с Фицджеральдом и Уилсоном: последний сказал, что «Хемингуэй был теперь большим человеком, а Скотт был так подавлен его величием, что смутил меня своим самоуничижением». Фицджеральд был пьян, юродствовал, униженно извинялся; Хемингуэй написал Перкинсу, что его друг «ушел в это дешевое ирландское пораженчество» и сможет писать лишь в том случае, если бросит пить или овдовеет, а Фицджеральд сказал Уилсону, что ему не следовало видеться с Хемингуэем: «Мне кажется, что с Эрнестом мы достигли такой ступени, когда я одновременно высмеиваю его и раболепствую перед ним».