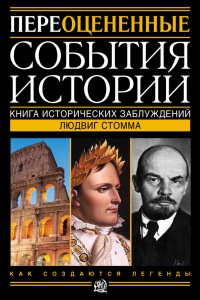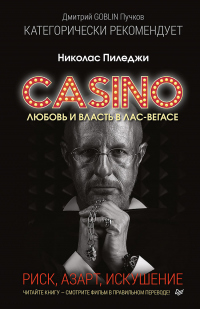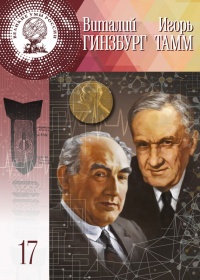Книга Голубиный туннель - Джон Ле Карре
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Атмосферу скрытности и манипулирования (у шиитов это называется «такия»[60]), царящую в вашей книге, я глубоко прочувствовал. Профессионализмом сотрудников КГБ и ЦРУ наши похитители, конечно, не отличались, но тщеславных дураков и жестоких циников среди них тоже хватало, а утолить жажду власти им помогала религия и доверчивость молодых боевиков.
Подобно вашим персонажам, мои тюремщики были специалистами в области паранойи: тут тебе и патологическая недоверчивость, и маниакальные вспышки ярости, и ложные суждения, и бредовые идеи, и постоянная агрессия, и невротическая склонность ко лжи. Мы жили в точно таком суровом и нелепом мире, как и Алек Лимас, в мире, где человек всего лишь пешка. Как часто я чувствовал себя забытым, покинутым. А главное, выдохшимся. Еще этот двуличный мир заставил меня размышлять о своей профессии, о журналистах. В конце концов, мы ведь тоже двойные агенты. Или тройные. Мы проявляем сочувствие к другим, чтобы войти в доверие и что-то выяснить, а потом предаем.
Ваш взгляд на человечество пессимистичен. Мы жалкие создания и поодиночке почти ничего не стоим. К счастью, не все так думают (взять, к примеру, Лиз).
Эта книга убедила меня, что надеяться надо. Самое главное в ней — голос, ощущение присутствия. Вашего. Торжество писателя, который описывает жестокий и бесцветный мир и, изображая его таким серым и безнадежным, находит в этом удовольствие. Это присутствие ощущаешь почти физически. Кто-то говорит с тобой, ты уже не один. Я оставался в тюрьме, но больше не чувствовал себя покинутым. В мою камеру пришел человек, пришли его слова, его мировоззрение. Кто-то делится со мной своей энергией. Значит, я могу все это пережить…[61]
* * *
И вот пожалуйста, вот вам память человеческая — и моя, и Кауфмана. Я мог бы поклясться, что тогда за обедом Кауфман говорил о «Команде Смайли», а не о «Шпионе, пришедшем с холода», и моя жена тоже вроде бы это помнит.
Сын отца автора
Мне понадобилось много времени, прежде чем начать писать о Ронни — мошеннике, выдумщике, узнике — время от времени — и моем отце.
За этого персонажа я хотел взяться с того самого дня, как предпринял первые неуверенные попытки что-нибудь написать, вот только справиться с такой задачей мне удалось ой как нескоро. Ранние наброски моей книги, из которой в конце концов вышел «Идеальный шпион», были пронизаны жалостью к себе: обрати, благосклонный читатель, взгляд свой на этого юношу с искалеченной психикой, раздавленного пятой отца-тирана. Только когда отец уже благополучно лежал в могиле, я, снова принявшись за этот роман, сделал то, что следовало сделать с самого начала, и грехи сына представил гораздо более достойными порицания, нежели грехи отца.
А разобравшись с этим, я отдал должное и наследству, оставшемуся после его бурной жизни: галерее разнообразных персонажей (от которой даже у самого пресыщенного писателя потекли бы слюнки) — от виднейших легальных авторитетов того времени, звезд кино и спорта до самых именитых представителей криминального мира и прекрасных созданий, что их сопровождали. Куда бы ни следовал Ронни, непредсказуемость следовала за ним. В выигрыше мы или в проигрыше? Сможем мы залить полный бак в кредит на местной заправке? Ронни бежал из страны или вечером, довольный собой, прикатит на «бентли» и припаркуется на подъездной аллее? Или спрятал ее в садике за домом, выключил повсюду свет, проверил, заперты ли двери и окна, и вполголоса говорит по телефону, если только телефон не отключен? Или он у одной из своих альтернативных жен, наслаждается покоем и уютом?
О связях Ронни с мафией, если таковые имелись, мне известно прискорбно мало. Да, он якшался со скандально известными близнецами Крэй, но, может, Ронни просто искал знакомства со знаменитостями. И какие-то дела с худшим из лондонских домовладельцев Питером Рахманом у него были, однако вероятнее всего, я так думаю, что молодчики Рахмана просто помогли Ронни избавиться от арендаторов, после чего тот продал свои дома и отдал Рахману долю.
Но настоящее сотрудничество с преступным миром? Насколько я знал Ронни, он на такое не пошел бы. Аферисты ведь эстеты. Они носят хорошие костюмы, ногти у них ухоженные и речь культурная. Ронни говорил, полицейские — мировые ребята, с ними всегда можно договориться. Чего не скажешь о «парнях», как он их называл, — свяжешься с этими парнями, глядишь, и самому не поздоровится.
Напряжение? Ронни всю свою жизнь ходил по тонкому льду — самому что ни на есть тонкому и скользкому. Находясь в розыске за мошенничество, он мог появиться на скачках в Аскоте, красоваться в сером цилиндре в ложе для владельцев лошадей — и не видел здесь никакого противоречия. Торжественный прием в «Клариджез»[62] по случаю второй женитьбы отца пришлось прервать на время — пока Ронни уговаривал двух детективов из Скотленд-Ярда отложить его арест до окончания вечеринки, а пока повеселиться вместе со всеми, и полицейские повеселились как полагается.
Думаю, Ронни не смог бы жить иначе. И, думаю, не хотел. В драмах и представлениях Ронни нуждался как наркоман, он был оратором-проповедником, не ведающим стыда, и потрясающим актером. Он считал себя любимчиком Господа, умел очаровать, увлечь своими бредовыми идеями и не одну человеческую жизнь сломал.
Грэм Грин называет детство кредитом писателя. Значит, я родился миллионером — по крайней мере, если измерять богатство такими категориями.
* * *
В последнюю треть его жизни (Ронни умер внезапно, в шестьдесят девять лет) мы либо не общались вовсе, либо ругались. Можно сказать, по взаимному согласию мы непременно устраивали друг другу ужасные сцены, а зарывая топор войны, всегда помнили, где его откапывать. Изменилось ли мое отношение к Ронни с тех пор, смягчился ли я? Порой мне удается его обойти, а иной раз он встает передо мной, как гора, которую я все еще не покорил. Но так или иначе, он всегда рядом в отличие от моей матери, я ведь до сих пор не имею понятия, что она была за человек. Рассказы тех, кто знал ее близко и любил, ничего не прояснили. Может, я этого и не хотел. Мне уже исполнился двадцать один, когда я разыскал мать, и с тех пор много помогал ей, хоть и не всегда по доброй воле. Но за все время с момента нашего воссоединения и до ее смерти я так и не почувствовал, что ребенок внутри меня, замерзший без материнской ласки, оттаял, хотя бы чуть-чуть. Любила ли она животных? Природу? Море, у которого жила? Музыку? Живопись? Меня? Читала ли книги? От моих она точно была не в восторге, ну а книги других авторов?
Последние годы жизни мать провела в доме престарелых, и когда я приходил к ней, мы в основном говорили об отце, вспоминали его проделки — с улыбкой или с сожалением. Навещая мать, я постепенно осознал, что она создала для самой себя — и для меня — идеальный образ наших отношений, которые развивались непрерывно с моего рождения и до сего дня.