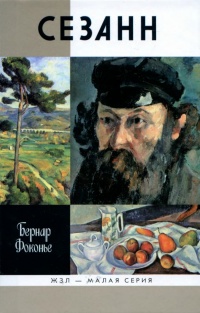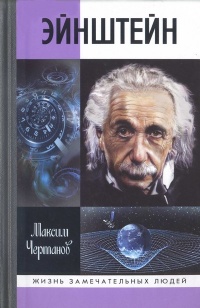Книга Сезанн. Жизнь - Алекс Данчев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сезанн в мастерской. 1904 (?)
Портреты Шоке, созданные Сезанном, поражают оригинальностью, о чем авторитетно заявил не кто иной, как сам Дега, который владел одной вещью и пытался заполучить вторую («один безумец изобразил другого»). Самый большой безумец был представлен на третьей выставке импрессионистов в 1877 году; словно в подтверждение слов Дега, картину приняли как образчик «больного искусства» (цв. ил. 29). Весь портрет – это величавая голова. Коллекционер и инспектор соединились в достойном их кумира произведении; работу сравнивали с идеализированным портретом Шопена, созданным Делакруа. Не случайно Шоке здесь максимально приближен. «Если меня интересует голова, я делаю ее огромной». Продолговатая львиная голова оживает в мазках и красках; грива – серо-зеленая. Модель исполнена величавого достоинства с оттенком меланхолии, от нее словно исходят вихревые токи, жар. «Портрет Виктора Шоке» небольшой, но в нем есть величие, весомость, он настолько захватывает своей неортодоксальностью, что потеснил миниатюрное творение Ренуара с тем же сюжетом, зато вызвал поток хулы в адрес «Мужской головы» – так изначально называлась вещь. «Перед нами рабочий в синем халате, лицо его – длинное-предлинное, словно пропустили через машину для отжима белья, и желтое-прежелтое, как у красильщика, имеющего дело с охрой, – обрамлено синими волосами, которые топорщатся на макушке», – писал один критик{474}. Тогда же появился портрет, который можно было бы назвать «Виктор Шоке в кресле с подпиленными ножками эпохи Людовика XVI» – еще одно примечательное изображение коллекционера: в нем и сдержанность, и угловатая неподвижность, лицо словно не в фокусе, нескладная фигура, вписанная в замысловатый узорчатый фон, предстает горделивой и одновременно отстраненной от суеты{475}.
Можно ли сказать, что «Мужская голова» – это не просто изображение позирующего? «В портрете своего почитателя, – предположил Мейер Шапиро, – Сезанн говорит и о себе». Лоренс Гоуинг пошел дальше, допуская, что портрет Шоке – «измененный образ самого художника»{476}. Портретирование – обоюдный процесс, взаимное узнавание. Собственная идентичность значила для Сезанна не меньше, чем идентичность его моделей. Определяя рамки для Шоке, он задавал их для себя. Его портреты требовали анализа. Анализ и самоанализ так или иначе оказывались неделимы. Характер отношений с Виктором Шоке заставлял Сезанна сравнивать их судьбы. Их соединил первый портрет, «Мужская голова», а осмеяние лишь скрепило эти узы. «Вы ведь и сами чувствуете, что в каждом положенном мною мазке есть капля моей крови, смешавшейся с каплей крови вашего отца, – сказал Сезанн Жоашиму Гаске, – возникает удивительная связь, о которой он не догадывается, она соединяет мои глаза с его душой, воссоздает ее, чтобы он смог узнать себя… Все мы должны прийти к гармонии – моя модель, мои краски и я сам, – чтобы вместе пережить этот волнующий момент»{477}. Для Сезанна портрет был равноценен кровной клятве.
Шоке был предан художнику. За пятнадцать лет он собрал потрясающую коллекцию из тридцати трех «сезаннов». Золя был с ним знаком – или знал о нем. Шоке изображен в «Творчестве» как эпизодический персонаж – Гю: «Господин Гю, бывший начальник какого-то департамента, к несчастью, не был достаточно богат, чтобы покупать бесконечно, он только причитал по поводу ослепления публики, которая и на этот раз не признала гения, предоставляя ему умирать с голоду; он же, пораженный с первого взгляда, выбрал самые резкие произведения Клода и развесил их рядом с полотнами Делакруа, пророча им неменьшую славу»{478}. Образ получился жизненным. Чтобы оценить Сезанна, Виктору Шоке времени понадобилось не многим больше, чем Писсарро. Сезанн нашел единственно подходящий способ воздать Шоке должное в «Апофеозе Делакруа» (цв. ил. 30) – картине, над которой он долго думал и которую так же долго не завершал. На ней мастера, спускающегося с небес, поддерживают ангелы, один из них несет палитру и кисти. Внизу – почитатели, среди которых Писсарро с мольбертом, Моне под зонтом, сам Сезанн с этюдником за спиной и с посохом, лающий пес (по замыслу – символ зависти) и легкоузнаваемая фигура Шоке, аплодирующего под деревом{479}.
На обратной стороне более раннего эскиза к этой работе Бернар обнаружил еще один сезанновский стихотворный отрывок – подражание Бодлеру. Изначально рисунок появился в середине или в конце 1870‑х годов; Сезанн вернулся к нему двадцать лет спустя и местами прошелся акварелью. Если стихи появились одновременно с эскизом, выходит, что Сезанн продолжал взращивать в себе этот талант дольше, чем считалось, – или же ветреная муза неожиданно решила вернуться. Как бы то ни было, беспомощным стихотворение не назовешь.
Как и Писсарро, Шоке был уже немолод; к возрасту прилагался и почет: художники величали его Папаша Шоке. Ему также довелось войти в круг избранных: он не только обсуждал с Сезанном его произведения и, в сущности, заказы (и это с художником, на заказ почти не работавшим!), но и поддерживал его морально. Видел ли Сезанн в нем своего мецената, по аналогии с Горацием или реальным Меценатом в Древнем Риме? Он даже написал два панно – «Бассейн и павлины» и «Лодка и купальщицы» – для парижского особняка Шоке, hôtel particulier[56] XVIII века на улице Монсиньи, которая втиснута между Оперá и Биржей{481}.