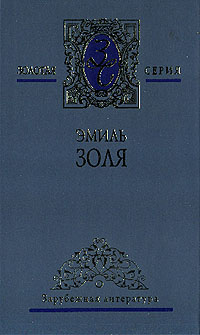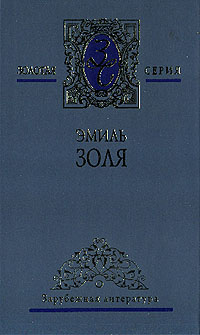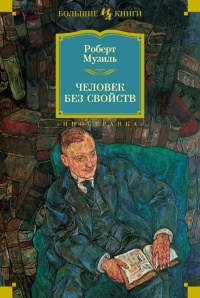Книга Парижские тайны - Эжен Сю
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Господин Пипле взглянул на Родольфа, покачал головой и скрестил на груди руки в поистине скульптурной позе.
— Понимаете, сударь? Он бесстыдно просил у меня, своего смертельного врага, которого поносил на все лады, прядь моих волос — милость, в которой дамы отказывают иной раз даже своему возлюбленному.
— Куда бы еще ни шло, будь этот Кабрион хорошим жильцом вроде господина Жермена, — заметил Родольф с невозмутимым хладнокровием.
— Даже в этом случае я не дал бы ему пряди своих волос, — величественно сказал человек в цилиндре, — это не в моих принципах, не в моих привычках; но с другим человеком я счел бы своим долгом облечь отказ в вежливую форму.
— Это еще не все, — подхватила привратница. — Предоставьте себе, сударь, что с того самого дня, в любой час — утром, вечером, ночью, этот мерзкий человек подсылал к Альфреду кучу молоденьких мазил, которые являлись один за другим и требовали у Альфреда прядь его волос для Кабриона!
— Вы, может быть, думаете, что я сдался? — возмущенно заявил г-н Пипле. — Как бы не так! Меня скорее бы отправили на эшафот! После трех-четырех месяцев упорства с их стороны и сопротивления с моей я восторжествовал благодаря энергии и выдержке над этими негодяями. Они поняли, что натолкнулись на железную волю, и отказались от своих наглых выходок. Но все же, сударь, я получил удар вот Сюда. — Альфред поднес руку к сердцу. — Сон у меня сделался тревожным, словно я совершил преступление. Я поминутно просыпался, так как мне чудился голос этого проклятого Кабриона. Я опасался всех и каждого, в любом человеке видел врага; я потерял свою обычную приветливость. Когда в окне привратницкой появлялось чужое лицо, я вздрагивал, опасаясь, что это кто-нибудь из банды Кабриона. Я стал подозрительным, хмурым, злоязычным, словно преступник... Я боялся открыть свою душу при первом знакомстве из страха, что этот человек подослан Кабрионом; я потерял вкус ко всему на свете.
Тут г-жа Пипле поднесла указательный палец к своему левому глазу, словно для того, чтобы смахнуть набежавшую слезу, и утвердительно кивнула.
— В конце концов я замкнулся в себе, — продолжал Альфред все более жалобным тоном, — и равнодушно смотрю, как течет река жизни. Разве я был неправ, говоря, что Кабрион, это исчадие ада, отравил мое существование?
И г-н Пипле, глубоко вздохнув, склонил свой высокий цилиндр, словно под гнетом огромного несчастья.
— Понимаю теперь, почему вы не любите художников, — заметил Родольф, — но, надеюсь, господин Жермен, о котором вы упоминали, сгладил неприятное впечатление, оставленное Кабрионом?
— О да, сударь! Вот поистине добрый и достойный молодой человек, бесхитростный, услужливый, не гордый и по-настоящему веселый, так как его шутки никого не задевали, он полная противоположность нахальному и насмешливому Кабриону, да покарает его господь!
— Полно, успокойтесь, дорогой господин Пипле, не произносите больше его имени. А какого же домовладельца осчастливил теперь гоподин Жермен, этот перл всех жильцов?
— О господине Жермене нет ни слуху ни духу... Никто не знает, куда он переехал... Никто... За исключением мамзель Хохотушки.
— Хохотушки? Кто она такая? — спросил Родольф.
— Простая работница и тоже живет на пятом этаже, — подхватила г-жа Пипле. — Она настоящая жемчужина: за квартиру платит загодя, и такая чистюля, такая любезная и веселая... ласковая, радостная, точно птичка божия. И прилежная, как Золушка; иной раз она зарабатывает до двух франков в день, но, понятно, для этого ей приходится здорово гнуть спину.
— Но почему мадемуазель Хохотушка одна знает, где живет Жермен?
— Прежде чем выехать из нашего дома, — продолжала г-жа Пипле, — он сказал нам: «Писем я не жду, но если случайно придет письмо на мое имя, отдайте его мамзель Хохотушке». Ведь правда, Альфред, ей вполне можно доверить даже ценное письмо?
— Да, насчет мамзель Хохотушки ничего дурного не скажешь, — сурово заметил привратник, — если бы не ее слабость к этому прохвосту Кабриону.
— Что до этого, Альфред, — проговорила привратница, — Хохотушка тут ни при чем, все зависит от помещения. Ведь то же самое было с коммивояжером, который жил в этой комнате до Кабриона, и с господином Жерменом, поселившимся там после подлеца Кабриона! ей-богу, иначе и быть не может, все зависит от воздуха этого этажа.
— Значит, все жильцы комнаты, которую я собираюсь занять, ухаживают за мадемуазель Хохотушкой?
— Да, сударь, и это нетрудно понять: обе комнаты находятся рядом; жилец оказывается соседом Хохотушки; знаете, как это бывает с молодежью... то надо лампу зажечь, то занять раскаленных угольков или же воды. О, что до воды, ее всегда найдешь у Хохотушки, чего другого, а в воде у девушки не бывает недостатка: это ее роскошь, она настоящая утка. Как только у нее выдается свободная минутка, она принимается мыть окна, пол, все свое помещение. Потому-то у нее всегда так чисто!.. Впрочем, вы сами убедитесь в этом.
— Итак, господин Жермен тоже испытал на себе влияние мадемуазель Хохотушки и стал ее добрым другом?
— Да, сударь, и надо сказать, что они прямо-таки были рождены друг для друга. Такие оба красивенькие, молодые; одно удовольствие было смотреть, как они спускаются по лестнице в воскресенье, единственный свободный день этих бедных детей! Она принаряженная, в хорошеньком чепчике и хорошеньком платьице из ткани по двадцать пять су за локоть, в котором она выглядела королевой, он же одет как настоящий щеголь!
— И господин Жермен больше не виделся с девушкой с тех пор, как выехал из этого дома?
— Нет, сударь, если только они не встречаются по воскресеньям, потому что в другие дни Хохотушке некогда думать о любовниках, ей-богу! Она встает в пять или шесть утра и работает до десяти, а иной раз до одиннадцати вечера; она никогда не выходит из своей комнаты, разве что утром, чтобы купить провизии для себя и своих двух канареек, втроем они, право, не так много едят: на два су молока, немного хлеба, салата, пшена, зернышек для птиц и свежей чистой воды. Но это не мешает девушке и двум канарейкам петь и щебетать так, что слушать их одно удовольствие!.. Да и девушка она добрая, сострадательная; правда, деньгами она никому не может помочь; бедняжка работает иной по двенадцати часов в день и еле сводит концы с концами, но она недосыпает ночей, чтобы уделить внимание обездоленным, позаботиться о них... Возьмем хотя бы несчастных людей, что ютятся на мансарде, как раз их-то господин Краснорукий и собирается выкинуть на улицу через три-четыре дня. Так вот мамзель Хохотушка и господин Жермен несколько ночей кряду ухаживали за их больными детьми!
— Значит, в этом доме живет нуждающаяся семья?
— Нуждающаяся, сударь? Бог ты мой! Несчастнее их трудно сыскать! Пятеро малолетних детей, тяжело больная мать и полоумная бабка; а кормит всю эту ораву единственный в семье мужчина, работяга, каких мало, но он даже хлеба не ест досыта, хотя трудится, как негр. Спит три часа в сутки, да и какой это сон, когда дети просят: «Хлеба, хлеба!» — больная жена стонет на своем соломенном тюфяке, а старая идиотка принимается иной раз выть, как волчица... тоже, понятно, от голода, потому что разума у нее не больше, чем у скотины. Когда у нее живот подводит, по всей лестнице раздаются ее вопли.