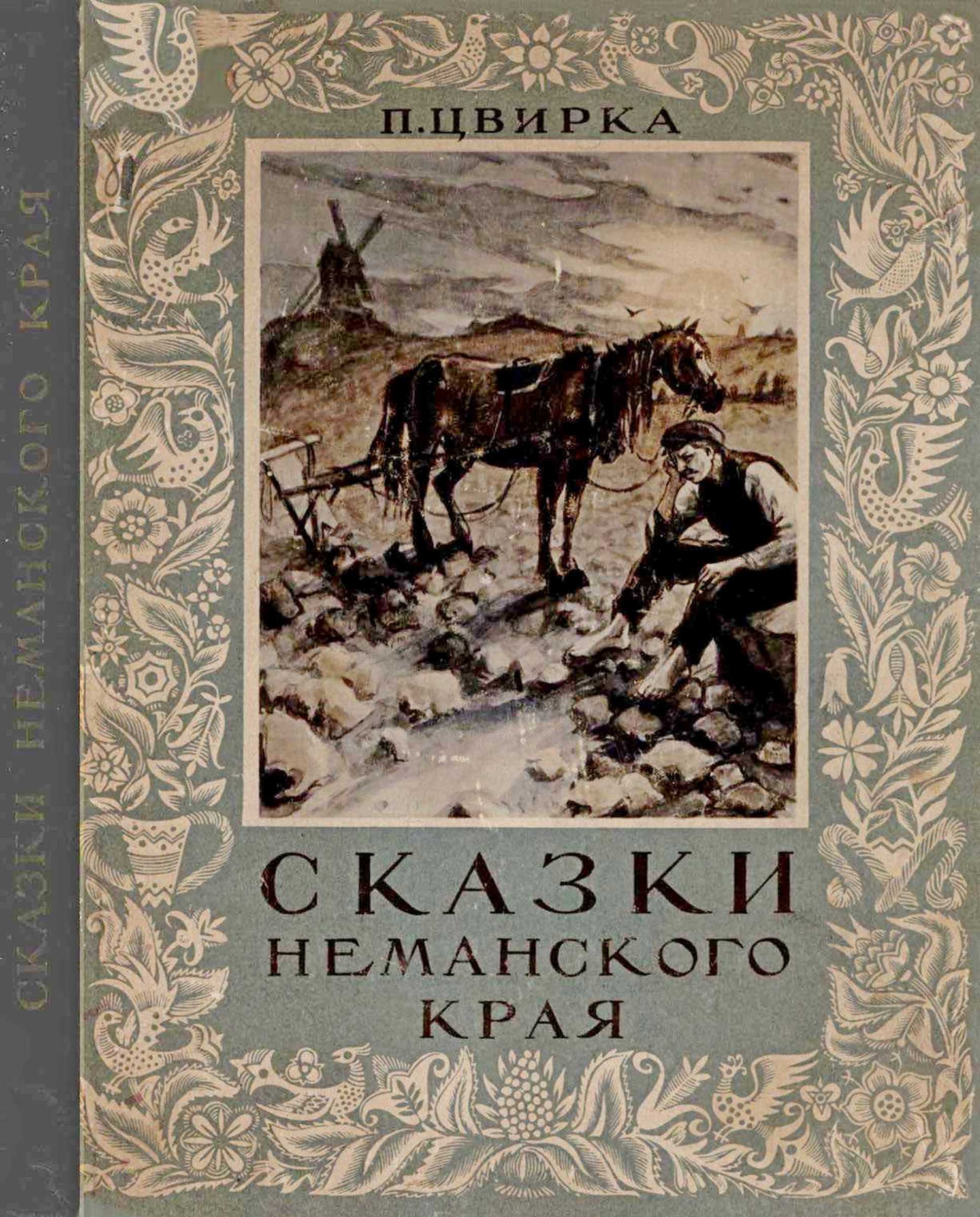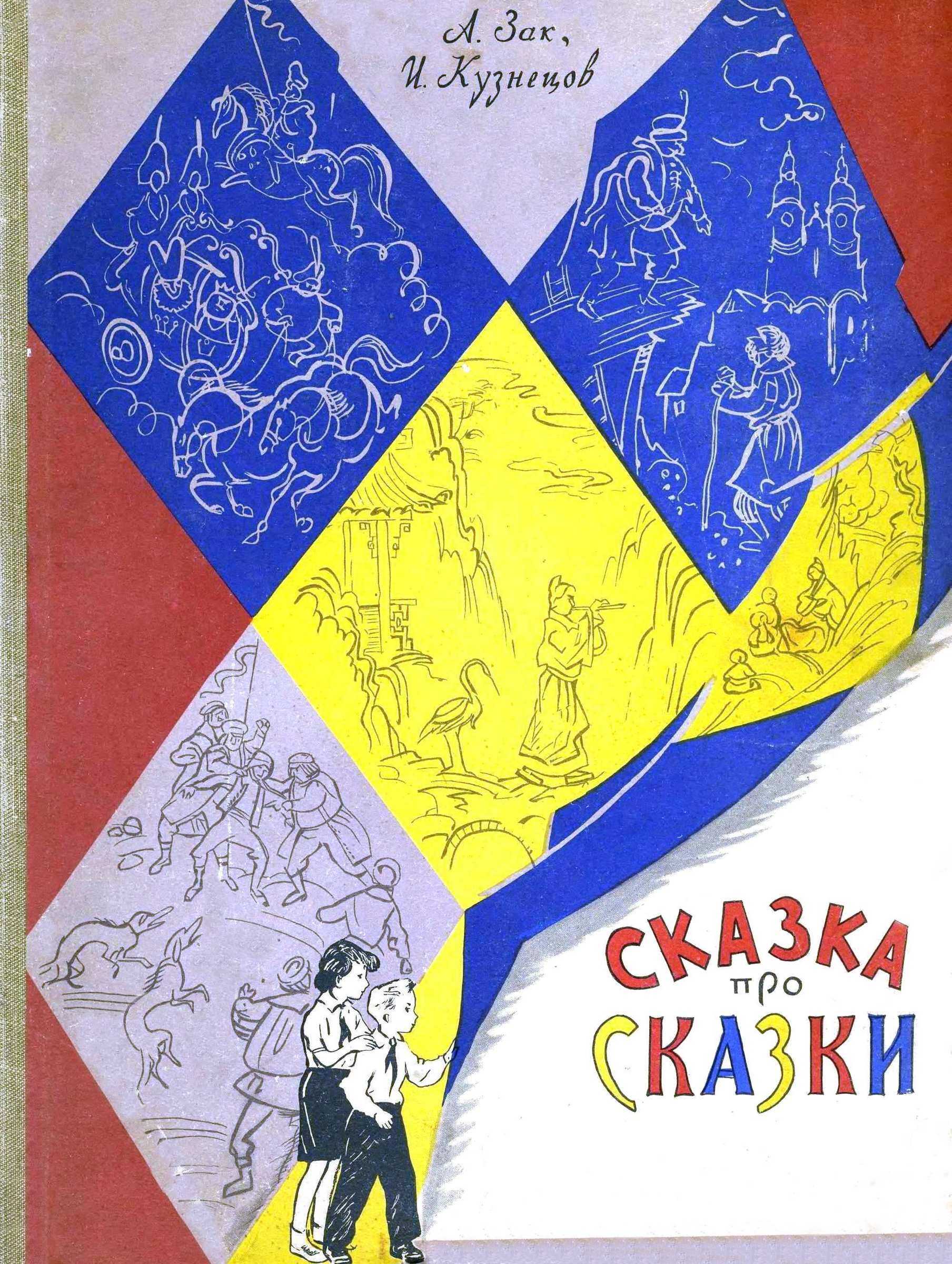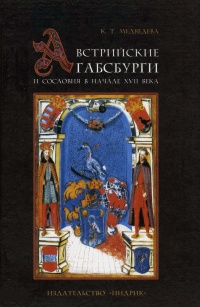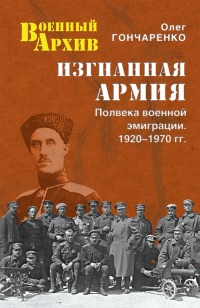Книга Холоп-ополченец. Книга 1 - Татьяна Богданович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Савёлка стал божиться, что они прохожие люди и воровских дел за ними нету.
Баба подумала, да и сжалилась, пустила. Только, говорит, больной-то пущай лежит, а ты покуда подсоби мне. Одна я сам-пят, с четырьмя ребятишками, а у меня хлеб не обмолочен.
Ну, Савёлка помог. А наутро Михайлу пуще прежнего схватило, трясет, подкидывает, а сам в жару весь лежит. Баба поглядела на него и говорит Савёлке:
– Знаю я эту болесть. Всее зиму она его трепать станет, а как тепло настанет – отпустит. Я уж за им похожу, бог с им. Он, видать, не охальник. Лавки не пролежит. А тебе чего ж зря время проводить? Иди себе, куда шел. Он тебе все одно не товарищ. Только лишь уговор промеж нас. Я – вот она, вся тут. Жили мы справно. Запашка есть, огород. А мужика забрали в какое ни есть ополченье. Мне одной не сдюжить. Стало быть, пропадать и с ребятами. Так вот пущай он, как встанет, за мой за хлеб за соль лето мне проработает. А как уберемся, пущай идет, куда шел.
– А как помрет? – спросил Савёлка.
– Ну что ж? Стало быть, божья воля. Ништо, похороним, как след, в освяченной земле. Мне тó тогда за души спасенье зачтется.
Савёлка попрощался и пошел – что будешь делать?
Но Михайла не помер. Маланья за ним, как за сыном родным, ходила, меньшой сынишка тятькой стал звать. Снег еще не сошел, бросила его трясовица. Можно бы и уйти, да совести нехватило. Истинно пропадать бабе одной с ребятами.
Подумал он, подумал. Коли этим летом дело решится, добудут волю, стало быть, и без него обошлись. А коли всё биться будут, он, как хрестьянскую всю работу справит, бегом побежит, разыщет Дмитрия Иваныча и пойдет с ним волю добывать.
На том и порешил.
За тульское сиденье да за долгую болезнь вконец отощал Михайла. Не за день, не за два к нему силы вернулись. Походов да битв ему бы в ту пору никак не выдержать. Жизнь в деревне у Маланьи ему тут в самый раз была. Как земля после зимней спячки оживать стала, так и в него помаленьку силы вливаться стали. Маланья его не торопила, не нудила; домашнюю работу сама всю справляла, а на него только поглядывала да подкармливала его.
Как снег стаял, в воздухе весной потянуло и мужики, как медведи из берлог, стали из изб на вольный воздух вылезать, так и Михайла начал выползать на крылечко, бродить по двору, заглядывать в сараи да в амбары, припоминать крестьянское хозяйство.
Как только Михайлу трясовица бросила и он задумываться начал, Маланья так ему в глаза и заглядывала, а спрашивать ни о чем не спрашивала. Ну, а как он думу с себя сбросил, стал по двору ходить да спрашивать, где у нее соха и борона, чтоб заранее осмотреть, все ли исправно, – она и повеселела. Ребятишек ласкает, а ему норовит лишний кусок за столом подложить.
Про последний год Михайле и не думалось совсем. Точно и не он это за Болотниковым на коне скакал, в землянке жил, на городской стене туру выслеживал, ночью с отрядом скакал и со стрельцами бился.
Теперь он, постучав во дворе топориком да поужинав досыта в избе, выходил на заре посидеть на завалинке. И так ему тихо и покойно на душе становилось, такие мирные думы копошились в голове, что губы сами собой круглились и вытягивались, и, сам не замечая, он начинал свистать, как птица по весне голос пробует.
Маланья тоже, прибрав со стола, выходила послушать, и сердце у нее радовалось. Ребятишки, и те замолкали и слушали. Нравился им Михайлин свист. Старший приставать даже стал к нему, чтобы научил и его. Но Михайла не любил этих разговоров. Стыдился он своего свиста. Отмахивался от мальчишки и говорил ему: разве этому научишь? Это уж кому от бога положено. А про себя думал: а может, и не от бога, а от нечистого?
А наутро Михайла принимался снова за нехитрую дворовую работу. Тут плетень починит, там топор наточит или рассохшуюся за зиму борону сколотит.
Так и заделался Михайла пахарем, каким и в Княгинине никогда не бывал. Ну, крестьянскую работу он все-таки знал. Приводилось, еще как отец жив был, ему помогать – и пахал, и боронил, и молотил осенью. Вот жать, правда, не приходилось. Ну, да не велика наука – привыкнет.
Работал он вёсну и лето, как заправский хлебороб. И ни о чем, кроме работы, не думал.
Лето жаркое стояло, душно в избе было, и Михайла перешел спать на сеновал над конюшней. Там все-таки попрохладней было.
Раз ночью проснулся он и слышит: внизу, в конюшне, возня какая-то. Лошадь копытом бьет, фыркает, ржет. Он скорей натянул рубаху, тихонько приоткрыл дверь и, стараясь не зашуметь, спустился по лестнице во двор.
Дверь в конюшню была открыта, на земле стоял небольшой фонарик, а около денника копошился какой-то человек в казацкой шапке, стараясь вывести упиравшуюся лошадь.
У Михайлы так и закипело внутри. Он бросился к ночному грабителю, схватил его за шиворот и закричал не своим голосом:
– Вор! Лошадь свести хочешь! Вот погоди, кликну мужиков. Они тебе намнут бока, покажут, как рабочую лошадь красть. Бродяга!
– Пусти! – кричал тот, стараясь вырваться. – Не твоя ведь лошадь! Хозяин, верно, в избе спит. Пусти – уйду. Мужики-стервецы до смерти забьют.
– А что ж, миловать вас, бродяг? Мужику, чай, без лошади пропадать.
В эту минуту тот вырвался, взглянул на Михайлу, хлопнул себя по ляжкам и громко захохотал:
– Так это ж ты, Михалка! Ишь как заговорил! Как с Болотниковым ходил, и сам бы, небось, у мужика лошадь свел… А ноне…
Михайла с яростью бросился на него:
– Молчи, Браилко! Не то тотчас мужиков кликну. Видно, Печерица прогнал тебя, что ты по дорогам бродяжишь. Утекай лучше, не то худо будет. Ну!
Браилко выругался, плюнул, выбежал из конюшни, перемахнул через плетень и через минуту исчез в ночном сумраке.
Михайла погрозил ему вслед кулаком. Он еще весь дрожал от злости.
– Бродяга! Чортов сын! – бормотал он, запирая конюшню и взбираясь опять на сеновал. – Без лошади бы оставил! Как убрались бы?
Но когда он протянулся на сене, он не