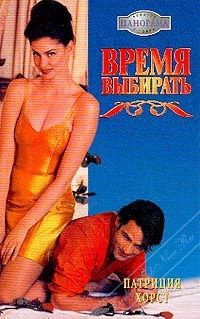Книга Фантазии женщины средних лет - Анатолий Тосс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Понимала ли я, что это своего рода агония? Не знаю, наверное, но я не хотела в это верить. Я все еще молила о чуде, я надеялась, что он приедет.
Сама я не посмела бы бросить работу. Она без остатка захватила меня, увлекла, мне было неожиданно интересно, все чувствовали мою силу и признавали ее. Через год меня повысили, передав под мое руководство большую часть проекта и людей. Я исправно писала обо всем Дино, и он радовался за меня, я знала, искренне, я даже не была уверена, понимает ли он, что мои успехи означают, по сути, окончательную потерю друг друга. Он тоже исправно рассказывал, как идут его дела, о театре, пересказывал свежие сплетни, радовался, что ему дают новую роль, что Альфред сказал ему ободряющее слово. Милые, чистые письма, милая наивность, вздыхала я, улыбаясь.
Я часто думала, как разительно отличаются письма Стива и Дино, как будто они представляли две противоположные стороны мира. Одни – тонкие, глубокие, все понимающие, едкие, даже извращенные в своем бесконечном знании. Другие – тихие и милые, повседневные, и я думала, что и первые и вторые совершенно по-разному раскрашивают мою жизнь, не конкурируя и не подавляя друг друга.
В принципе я ничего не знала о Стиве: чем он занимается, как проводит время, с кем общается, даже с кем спит, так, туманные, едва проскальзывающие обрывки. Но при этом я знала о нем все, я была полностью погружена в его запутанную, затемненную душу, в его греховные мысли. А Дино? Что ж, я знала о каждом его дне, когда он проснулся, как и с кем позавтракал, что прочитал в газете, если удосуживался ее прочитать, да и все остальные подробности, которые он мог бы и не пересказывать, но пересказывал. Лишь однажды я поймала себя на мысли, что все эти пустые бытовые детали на самом деле отгораживают меня от Дино, что они своеобразный заслон, не допускающий меня в его внутренний мир. Хотя, предположила я, скорее всего он не очень отличается от его повседневности.
Письма по-прежнему продолжали приходить и отсылаться, но встречи становились все реже. Я нервничала, зная, что теряю Дино, мне было тошно от своего бессилия, но что я могла сделать? Я ничего не могла! Сначала промежуток увеличился до двух месяцев, потом до трех, а потом остались лишь письма два раза в неделю, как по расписанию, подробные и нежные. Только в них повторялись прежние страсть и обещания, и я верила им, потому что не было ничего другого, чему я могла бы верить.
Мне становится холодно. Уже давно нет ни заката, ни океана, в такой кромешной темноте даже взгляд может пробираться только на ощупь, ему самому требуется поводырь. А сзади светится желтым окошком дом, и в одном этом огоньке уже предполагаются тепло и поддержка.
Я снова пью чай, умываюсь, меняю постель, раздеваюсь и ложусь, захватывая в постель книгу. И тут же понимаю, может быть, по лености движений, что я устала, слишком много всего произошло сегодня, и надо отдохнуть, заснуть, оставить чтение на завтра. Но я уже отыскала глазами короткий параграф, и взгляд уже скользит, опережая руку, не позволяя ей закрыть книгу.
Я жонглер слов, факир фраз и маг мыслей. Я вытаскиваю их за уши, как зайцев из шляпы, и так же волшебно и бессмысленно они потом исчезают в черном ящике, у которого – только я это знаю! – есть второе дно.
Почему я пишу эту книгу и что она есть, эта книга? Ничего. Именно ничего, только игра ума, иногда удачная, иногда не очень, но так или иначе ничем не наполненная, ни для кого, ни для чего. Бессмысленная, бесцельная, никому, не нужная, ни от кого не зависящая, ни от кого не ждущая ни похвалы, ни упрека.
Почему я люблю ее, почему бережно записываю в нее чудные свои истории и порой сам увлеченно зачитываюсь ими? Почему она растянулась на много лет? Почему? Я ведь ответил, потому что я жонглер слов, факир фраз и маг мыслей.
Я смеюсь, закрывая книгу. Я впервые пытаюсь представить себе человека, который ее написал. Я воображаю фигуру, немного сутулую от длительного сидения, фигуру в профиль, как будто я смотрю снаружи через окно, освещенное настольной лампой на письменном столе. Я спрашиваю себя: кто он и как эта книга попала сюда? И даже успеваю удивиться, почему я не подумала об этом раньше. Но удивление мое плоское и вялое, потому что сон уже поглотил и растворил в себе его вертикальную составляющую.
Я просыпаюсь среди ночи. Меня разбудил собственный смех, я по-прежнему ощущаю на губах сладкий привкус улыбки. Я помню свой сон наизусть, так бывает, когда просыпаешься неожиданно, и еще не пуганный сон не успевает раствориться и исчезнуть. Я видела Дино, говорила с ним, чувствовала его, мне незачем даже вспоминать его слова, они еще не успели застыть на уголках моих ночных губ, лишь растеклись по ним улыбкой.
– Чувственность и эмоциональность вполне совместимы с мужественностью. Более того, порой они неразделимы.
Мы находились в моей квартире во Франции. Как он туда попал, помню, я удивилась, а потом решила, какая разница? Он зашел в гостиную из коридора и задержался при входе, нас разделяло всего три шага. Я захотела коснуться губами его лица и потянулась до напряжения в теле и поцеловала.
– Это не твои слова, – сказала я, когда отступила, чтобы разглядеть Дино. – Ты не мог так сказать. Так могло быть написано в книге, которую я читаю.
– Откуда ты знаешь? – спросил он и сразу спросил снова:
– В какой книге?
Я подала ему книгу, она оказалась у меня в руке. Он полистал. Я знала, что он спросит, и потому ответила наперед:
– Я не знаю, кто ее написал, я просто нашла ее.
Он поднял брови, в его глазах появился несвойственный им чужеродный налет.
«Жесткость, – догадалась я. – Откуда она? Никогда не было жесткости».
– Если ты не знаешь, кто автор книги, почему не допустить, что ее написал я.
– Ты не мог ее написать, – не поверила я.
– Почему? Вот пункт, – он назвал номер, я не запомнила точно. – Здесь написано:
«В детстве, когда все представляется в романтическом, мушкетерском свете, и даже потом, в зрелости, я считал, что мужественность и твердость несовместимы с умением чувствовать и переживать. Я считал, что слезы для мужчины – стыдно, как и другие проявления чувств, даже слова зачастую лишние, потому что мужественность скупа, грубовата и немного замкнута. Я считал бы так всю жизнь, если бы не потери.
Только они заставляют переоценить привычные ценности и, как ни парадоксально, дают единственную возможность начать жизнь заново. Ведь известно, что больной, прикованный к постели, видит счастье, как элементарную возможность ходить, дышать, слышать запахи цветов. Но выздоровев, он не долго радуется свету, воздуху, он, закрученный суетой, скоро забывает, в чем она, простая радость бытия.
И только когда от потери не удается оправиться, как не смог оправиться я, потеряв тебя, Джеки, только тогда появляется возможность навсегда сбросить шелуху ограничивающих догм И понимаешь, что отрезав от себя кусок, будь то эмоции и умение чувствовать, ты тем самым урезаешь саму жизнь. Так я понял, что чувственность и эмоциональность вполне совместимы с мужественностью, более того, порой они неразделимы. Хотя ты, любимая, так никогда не поняла этого».