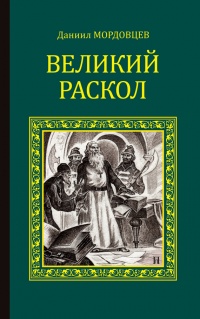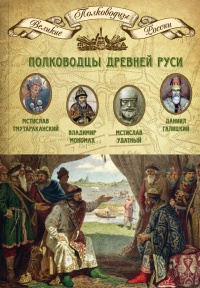Книга Лжедимитрий - Даниил Мордовцев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Выслушай его, — шепнула она, глядя ему в глаза.
— Ну? — обратился он к Басманову.
— Которые, царь-осударь, шесть человек были взяты ночью на твоём дворе — воры, злодеи твои.
— Ведь трёх положили на месте?
— Точно, царь-осударь. А которые трое остались, и те пытаны накрепко, и с пытки ничего не сказали, да так в распросе и подохли.
Димитрий задумался. Марина с мольбой глядела ему в очи — они опять были бездонные, бесцветные.
— Хорошо, — сказал он мрачно. — Завтра мы сделаем розыск. Дознаемся, кто против нас мыслит зло. А ноне я хочу быть добрым. Ради моей царицы. Спасибо, мой верный друг!
Басманов низко поклонился и вышел.
Прошёл и этот день — первые именины первой любви загадочного человека.
Вечером в новом дворце были танцы. Гремела музыка, звенели шпоры панов, шуршали, раздражая мужские нервы, шёлковые платья хорошеньких пани... Носились, словно херувимчики, миловидные пахолята в цветных изящных костюмчиках, прислуживая Марине и другим дамам. Паж Осмольский, стоя за стулом царицы, тайком целовал её роскошную, распущенную по плечам и перевитую золотыми нитями и жемчугом косу. Счастье, счастье, без конца счастье!
Теперь всё утихло. Гости разошлись. В дворцовых сенях остались только пахолята и несколько музыкантов — и все спят, разметавшись, где попало.
Не спит один Димитрий на своём роскошном ложе рядом с Мариной. Он слышит её ровное, тихое, как у ребёнка, дыхание, чувствует теплоту её разметавшегося на подушках молодого тела. Почему-то в эту ночь перед ним проходит вся его жизнь, полная глубокого драматизма, поразительных воспоминаний.
Углич... Не то он сам помнит себя в Угличе, не то ему кто-то рассказывал об этом. А кто? Где? Когда? Темно... Темно там, в далёком детстве... Пропасть какая-то глубокая... Ничего не видать.
А там монастыри какие-то... Чёрные рясы... Книги пожелтелые и воском закапанные... Старцы ветхие — и царевич. Да, это в крови сидело, под чёрной рясой и скуфьёй колотилось царское сердце, текла царская кровь, колотился под черепом этот мозг беспокойный, царский.
«И отчего Богдан Бельский никогда мне прямо в глаза не смотрит, когда я расспрашиваю его о своём детстве?.. А кто этот княжич Козловский, о котором он раз проговорился? Кто он — где пропал?..»
Днепр широкий... Киев... Пещеры... Мощи угодников... Гоща... Брагин... Самбор... Краков... Путивль... Москва... Экая лента какая перед глазами!.. И все чужие люди назади... Хоть бы один друг детства... Одна Марина — а от детства никого...
Как тихо кругом... Как тихо в Москве.
«Эх, Москва! Москва! Эх, Русь моя дорогая! Возвеличу я тебя, просвещу светом учения, раздвину тебя от моря до моря, и будешь ты богатая и могущая, будешь ты царицей цариц».
— Ох, милый. Где ты? — с испугом шепчет Марина.
— Что ты, сердце моё?
— Ах, как страшно. Дай взглянуть на тебя.
И Марина обвилась вокруг его шеи, глядела ему в очи. На дворе светало уже.
— Да, это ты — мой милый, мой царь... А я видела во сне не тебя... Не здесь... Другого... И он говорит, что он — ты... Как страшно...
— Ну, спи же, спи, дорогая моя.
Марина опять уснула. А он опять остался со своими думами.
«Да, я чужой им всем... И мать моя какая-то чужая мне... Ах, детство! Детство моё! Да что мне на него оглядываться? Впереди ещё целая жизнь — целый океан жизни... Как тихо в Москве — вся уснула... Один царь её не спит... Спи, спи, Москва! Спи, Русская земля великая! Скоро я разбужу вас...»
Что это?.. Издали, откуда-то из города, прокатился по небу набатный звон... Что это такое!
Мы знаем, что это такое... Это Шуйский выступает на сцену...
Москва взялась за нож да за рогатину. В пятницу уже на глазах этой Москвы поляки видели что-то зловещее. Паны и гайдуки бросались по лавкам и пороховым складам покупать порох — на случай самозащиты, но везде натыкались на эти зловещие глаза и слышали в ответ.
— Нет у нас зелья.
— Есть зелье, да не про вас, а на вас, на ваши пёсьи головы.
По змеиному шипу Шуйского часть войска, что готовилась идти в Елец, не шла, а окружила Москву змеиным кольцом, чтоб не выпустить того, кого обрекли на смерть...
— И сорока будет лететь из Москвы — и сороку бей, — шепнул Шуйский стрелецкому голове, участвовавшему в заговоре. — То, може, не сорока, а он — бес, еретик.
В роковую ночь после последнего пира, когда поляки и москвичи спали, и когда Димитрий, лёжа рядом с Мариной, мысленно переживал всю свою загадочную жизнь и заглядывал в тёмное будущее, не спали змеиные глаза Шуйского, отдававшего разные приказания, да некоторые из его сподручников тихо прокрадывались по спящим улицам Москвы и отмечали чёрными крестами дома, в которых жили поляки...
— Да почернее, братцы, мажьте, не жалейте сажи, чтобы видно было, где красненького подпустить... Киновари этой латынской, еретической.
— Подпустим, подпустим киновари, батюшка князь, у нас богомазы на этот счёт есть знатные.
— А вы, братцы, расправляйте резвы ноженьки да как учуете колокол полошной — это заговорит святой Илья пророк на Ильинке, — так и пойте по улице в истошный голос: «Литва царя хочет убить! Литва Москву берёт!..» Да кресты-то им и укажите — нашим-то православным: где крест — там Литва...
Полошной, набатный колокол на Ильинке ударил в тот самый момент, когда диск солнца только что коснулся горизонта и первый солнечный луч брызнул на колокольню и, скользнув по роковому колоколу, осветил и озолотил рыжую бороду звонаря...
На этот удар ответили соседние церкви — в самом звоне слышалась тревога, испуг, какой-то странный, металлический призывный крик, и стон и вопль... Нет ничего страшней набатного звона многих церквей. Теперь этот звон вывелся, но кто слышал пожарный набат, тот знает, что колокольный крик — самый страшный крик, доводящий до ужаса, обезумливающий людей... Это крик стихийного отчаяния...
Скоро закричали все церкви московские с их тысячами колоколов, дрогнули все колокольни, и словно вся Москва — и дома, и улицы, и стены Кремля, и площади, — всё задрожало... Ужас, невообразимый ужас!..
Москва как ошалелая металась по улицам, по площадям — искала крестов — и уже кое-где трещали и ломались ворота, звенели окна, падали ставни... Ближайшие валили в Китай-город, к Кремлю... Всполошённая птица, как и люди, металась из стороны в сторону, кричала, каркала, боясь, сесть на крыши, на заборы, на церкви — всё кричало и стонало...
А Шуйский уже на Красной площади, на коне... Только что выглянувшее солнце золотит его серебряную бороду, искрится на седых волосах, на кресте, который он держал в одной руке, а в другой — голый, сверкающий каким-то холодным светом меч... Он — на коне — такой бодрый, величественный... Куда девались его лисьи прячущиеся глаза? Он смотрит открыто, строго, зло, не боясь света солнца... Да и чего им теперь бояться? Кого? Прежде Шуйский боялся царей и лукавил перед ними, пряча свои лукавые глаза: лукавил перед Грозным, лукавил перед убогим Федей царём, лукавил перед Борисом Годуновым, лукавил перед Федей Годуновым, лукавил до сегодня и перед этим, что там, в Кремле, спит, может быть, лукавил и обманывал.