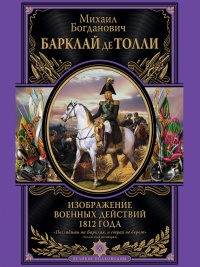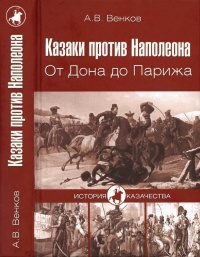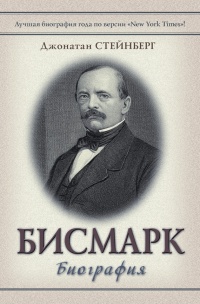Книга Франко-прусская война. Отто Бисмарк против Наполеона III. 1870—1871 - Майкл Ховард
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Без промедлений были розданы и самые внушительные портфели: Жюлю Фавру достался портфель министра иностранных дел, Леону Гамбетте – министра внутренних дел, Эрнест Пикар стал министром финансов, Исааку Кремьё отвели министерство юстиции. Престарелый Тьер отказался от министерского портфеля, но отправился в турне по Европе пополнять списки сочувствующих новому режиму и, по возможности, заручиться поддержкой нейтральных держав. Но еще требовался и коллега, ведающий военными вопросами, скорее даже военачальник, причем имеющий авторитет и в среде военных и к которому прислушались бы парижане. Очевидным кандидатом был генерал Трошю. Трошю был отнюдь не против. Он рассматривал революцию как естественный катаклизм, противиться которому было бы просто абсурдно. Фавр, Гамбетта и их коллеги, понимал Трошю, твердо обещали, как и любой из их соотечественников, встать на защиту Франции против ее врагов, и, получив от них заверения в поддержке трех столпов организованного общества – религии, собственности и семьи, – Трошю согласился войти в правительство на правах председателя совета и, на пике выпавших на долю страны бед, которые он, кстати, давно предвидел, взять на себя заботу о военном статусе Франции.
Было вполне естественно в данных обстоятельствах, что военные проблемы поначалу отойдут на задний план в умах новых министров. Nous ne sommes pas au pouvoir mais au combat — объявило правительство в своем обращении к армии 5 сентября, но правительство – это всегда вопрос о власти, и новые министры должны удостовериться, что они ею обладают. Они получили в руки контроль над государственными институтами, состоявшими из имперских чиновников, а консервативное общественное мнение в провинциях еще в 1848–1851 годах сумело удушить одну парижскую революцию. Непосредственная опасность правительству национальной обороны грозила, как оно полагало, справа, и экстремисты из политических клубов сначала рассматривались как лояльные, хоть не всегда послушные союзники. Кремьё, вновь назначенный министр юстиции, не скрывал сочувствия левым, и Этьен Араго, новый мэр Парижа, стал назначать мэрами столичных округов тех, для обуздания экстремизма которых пришлось срочно создавать специальные контрольные комитеты. Министерство внутренних дел, с его необходимым контролем над провинциальной администрацией, из-под носа куда более умеренного Эрнеста Пикара увел Леон Гамбетта, и Гамбетта восполнил недостаток экстремизма своей энергией и молодостью – ему было 32 года – и неуемным стремлением повелевать. Он был прирожденным лидером, тем, кто сознательно избрал путь Дантона. «Даже в его смехе и то чувствовалось властолюбие, – как писал один очевидец, – в его присутствии угасали любые желания возразить, даже если разум этому противился, и всем казалось, что повиноваться этому человеку столь же естественно, как ему повелевать». За считаные недели он выдвинулся в военачальники, снискав славу на этом поприще, но его насущной задачей было ознакомить с предписаниями нового правительства Франции и вынудить к повиновению не только имперских бюрократов, но и республиканцев, самовольно захвативших власть в Лионе, в Марселе и в других провинциальных центрах, выдвинувших программы, угрожавшие даже не общественному строю, а политическому единству Франции в целом.
Первоочередной задачей было назначение новых префектов, и в течение 10 дней их назначили в 85 департаментах. К тому же более консервативно настроенные члены нового правительства прекрасно понимали, что для их полномочий необходим более прочный моральный фундамент, чем избирательное право парижан, на случай заключения мира, продолжения войны, получения или признания их полномочий. Впоследствии они потребовали скорейшего проведения выборов. Доктринеров-республиканцев повсюду критиковали. 1848 год показал, что крестьяне и мелкая буржуазия, составлявшие основной электорат Франции, всякий раз по возможности голосовали против республик, навязываемых им политиками и агитаторами из Парижа. Выборы смели бы правительство национальной обороны в небытие, как и Первую и Вторую республики, и оставили бы страну беззащитной перед немцами. Но пока оставалась возможность выторговать у противника разумные условия мира, аргументы умеренных о том, что только правительство, снискавшее доверие населения страны и международное признание, вправе подписать мирный договор. В первые недели сентября такое урегулирование представлялось возможным. Это была война императора, император и его министры были низложены, и теперь французы могли прекратить войну и возвратиться к естественному состоянию мира. Поэтому выборы были назначены на 16 октября, а затем ради облегчения поддержания мира, несмотря на яростные протесты республиканцев, они были перенесены на 2 октября.
Мир, который новое правительство готовилось рассмотреть, не предусматривал уступок со стороны Франции, как гласил циркуляр Жюля Фавра, разосланный 6 сентября главам европейских государств, «ни сантиметра территории и ни единого камня крепостей», но, как понимал генерал Вимпфен, таких условий мира нечего было ждать от Бисмарка. Война не проистекала из простого конфликта требований или интересов, которые могли быть улажены признанием Францией поражения. Его корни следовало искать в исторически сложившейся взаимной враждебности обеих наций, которую война не устраняла, а лишь усиливала. Подобное отношение Бисмарк мог трансформировать в требование о пересмотре существовавших границ, которые навсегда избавили бы Германию от ее агрессивного соседа, но даже это едва ли умеряло пыл, разбуженный победой в этой войне, преобладавший в немецкой прессе и умах немецких солдат и населения Германии. Франция должна быть наказана раз и навсегда: эту идею мы находим и в многочисленных военных дневниках немецких офицеров, наступавших на запад. «Их нужно заставить почувствовать, что значит бросать вызов миролюбивому соседу, вынуждая его сражаться не на жизнь, а на смерть, – писал Верди. – Всей Франции необходимо отбить охоту к войне, и не важно, кто будет ею править, Наполеон, или Орлеан, или Бурбон, или кто-то еще». А о мирных переговорах, судя по всему, автор дневника и не задумывался: «Требования, которые мы обязаны предъявить Франции, должны быть настолько тяжелы, чтобы французы не смогли просто так выйти из игры, и не важно, что за правительство окажется у руля». Роон писал в том же духе: «Мы, ради своего народа и своей безопасности, не можем заключить мир, который не расчленил бы Францию, а французское правительство, какое бы оно ни было, не может заключать с нами мир в ущерб своему народу и своим владениям. Отсюда необходимость продолжать войну до полного истощения наших сил». Блюменталь полагал, что «следует рассматривать французов как плененную армию и всеми силами стараться деморализовать ее еще сильнее. Мы должны сокрушить их так, чтобы они и 100 лет спустя не опомнились бы». Подобные мысли, тем более открыто высказывавшиеся в германской печати, уже начинали способствовать тому, что Германия мало-помалу теряла единомышленников среди нейтральных держав, сочувствовавших ей в начале войны. Но не только радикалы в германской армии и в стране в целом ратовали за идею о том, что, мол, завоевание Эльзаса, протестантского, немецкоязычного, который в свое время являлся частью Германской (Священной Римской) империи, является минимальным вознаграждением за пролитую немцами кровь и нанесенный им материальный ущерб. Для либералов, желавших, чтобы германский флаг развевался везде, где говорили по-немецки, владение Эльзасом было предназначением Германии, в то время как все, кого военные вопросы так или иначе касались, видели в Эльзасе и соседней Лотарингии своего рода барьер, защищавший Баден и Пфальц от любой новой агрессии французов, угроза которой была столь актуальна в июле и которая, невзирая на явную небоеспособность французской армии, разумеется, последует. С Эльзасом и Лотарингией связывались две мощные крепости, на которых строилась вся оборонительная система на северо-востоке французской границы и которые ныне были осаждены, – Страсбург и Мец. Надежда Жюля Фавра на то, что победившие немцы все же убавят аппетиты по части трофеев, грешила избыточным оптимизмом.