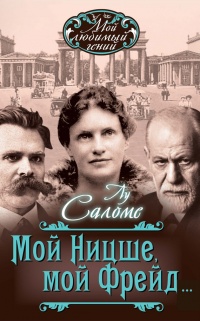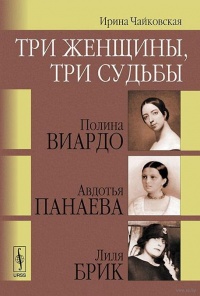Книга Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта. Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик - Игорь Талалаевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но и подвиг и преступление — только очередной бред. Придешь к ней, бывало; в красной, шелковой кофте, среди красных отблесков красного своего абажура из жарких теней, замотает нелепо серьгами, напоминая цыганку; придешь в другой раз: бледная, черноволосая, в черном во всем, она — монашенка; я бы назвал ее Настасьей Филипповной, если бы не было названия еще более подходящего к ней: тип средневековой истерички, болезнь которой суеверы XVI и XVII столетия называли одержанием, — болезнь, ставшая одно время в Европе XVII века повальной эпидемией, снедала ее; таких, как она, называли «ведьмами».
Я подробно вынужден остановиться на Н***; она — стала музой поэта Валерия Брюсова; вспомните любовную лирику лучшей его книги — «Венка»: половина стихотворений обращена к ней; вспомните образ «ведьмы», Ренаты, из романа «Огненный ангел»; там дан натуралистически написанный с нее портрет; он писался два года, в эпоху горестной путаницы между нею, Брюсовым и мною; обстание романа — быт старого Кельна, полный суеверий, быт исторический, скрупулезно изученный Брюсовым, — точно отчет о бредах Н***, точно диссертация, написанная на тему об ее нервном заболевании.
— «Н***, - бросьте же: вам все это снится; не мучьте себя», — говоришь ей, бывало.
— «Нет, нет, — я видела из мглы», — и рука показывает на темный уголок портьеры; что «видела» — не важно; она жила в снах среди бела дня.
И делалось жутко: тебе делалось — за нее жутко; посид у нее столько раз делался посидом с «ужасиками», успокоить ее в такие минуты было почти невозможно; разыграется горошина твоих слов, бывало, до… «вселенной блесков».
— «Как хорошо! Вы слышите? Точно пение?» — «Ничего не слышу… Обещайте не интересоваться жалким вздором», — речь шла о спиритических сеансах… на них присутствовал изучавший «средние века» Брюсов.
Она как обухом по голове:
— «Вы — настоящий ангел…» Хватаешься за голову!
Увы, единственный мой досуг в тот грустный сезон - нездоровый досуг: миссия, ей внушенная мне, что я-де спасаю ее от ее душевных растерзов, — не к добру привела: я, жалкий романтик, «влюпался» в трагедию, окончительно разорвавшую весь мной себе составленный жизненный план.
Слабый «Боря» вообразил себя Зигфридом; не умеющий себя ни от чего защищать, вообразил… Орфеем себя, изводящим Эвридику из ада: вместо ж этого, усугубив «ад» жизни Н***, я сам попался в «ад»; и потом позорно бежал от всех и «раев», и «адов»… в Нижний Новгород, к другу.
— «Выручайте!»
Иногда, успокоив Н***, я радовался детскому выражению ее просветлевшего лица, на котором вспыхивали двумя огнями глаза; и улыбка так сестрински проникала в душу; но и эти минуты превращала она в предлог к бреду, когда, вздрогнув, спрыгивала с дивана с напученными губами, с ужасной морщиной, — вдруг разрезавшей ей лоб.
— «Что с вами?..»
Она косилась на черный угол:
— «Ничего: оставьте…»
— «Опять вы…»
Но она, шуркнувши шелком, отскакивала, точно из темного угла выпрыгивал ядовитый тарантул; и прерывистый свист, напоминавший шип кобры, слетал с ее губ:
— «Брюсе…»
— «Что? Что?»
— «Брюсов!» Какой? Почему? Что?
В моем представлении, с Брюсовым она в эти месяцы и не могла видеться; Брюсов враждовал и с нею, и с ее мужем; так что ж это значило?
— «Что? Что?»
— «Брюсов! Опять он».
— «Что опять?»
— «Он мешает мне; он вмешивается в мои мысли: он за мной подсматривает; он крадется…» Ничего не понимая, я шел, омраченный, домой.
Брюсов раз в «Скорпионе», точно оскалясь, мне бросил с огромной, как мне показалось, ненавистью: по адресу Н***:
— «А почему это у Н***…» — и сказал что-то весьма пренебрежительное. На мои вопросы, «что Брюсов», — молчала Н***; и через неделю — новый припадок, в котором тот же мне непонятный испуг с произнесением фамилии Брюсова — повторялся; так Брюсов, ставимый ей предо мной, возникал предо мной, но в бредовых контурах, — таким, каким он стоял в растерянном ее воображении.
Это все — интриговало меня, я и не знал, что и Брюсов — постоянный ее конфидент; не знаю точно, где встречались они; знаю только: именно в то время, когда я полагал, что Н***, мне ругавшая Брюсова, не видится с Брюсовым, в моем представлении тоже не любившим и игнорировавшим ее, они виделись часто; жалкие мои уроки жизненной мудрости, Н*** преподаваемые по ее ж настоянию, от слова до слова она передавала ему; но только все слова ненормально вытягивались ее бредовою фантазией, из центра которой возникал не я вовсе, а какой-то пылающий «дух»; если бы я это знал, то убежал бы с первого свидания с ней, как убежал от нее потом, когда было поздно; Брюсов внимал ее бреду обо мне и переиначивал его, сообразуясь с фабулой своего романа: из средневековой жизни.
И не понял я, «мудрец», элементарнейшей истины, что Н*** просто в меня влюблена и что Брюсов, ее полюбивший, запламенев мрачной страстью, готовит ей, мне и себе ряд тяжелых страданий.
Алогические, как казалось, понимания Н*** Брюсова с неожиданной стороны подчеркнули мне фигуру поэта: то, что я узнал о Брюсове из слов Н***, был бред; она с убеждением говорила: Брюсов-де гипнотизировал ее, он-де меня ненавидит; я-де должен весьма бояться его, и т. д. Знай я раньше корни этого бреда, т. е. знай, что Н*** видится с Брюсовым, что он в нее влюблен, а она его «дразнит» моим фантастическим образом (на то и истерическая ложь, чтобы путать действительность с грезой), я бы понял, что у Брюсова есть действительные психологические мотивы испытывать ко мне слишком понятное чувство досады.
Я ж ничего этого не знал; чем больше Н*** бредила, тем более я считал своим долгом возиться с нею.
Перед Н*** развивал я то, что поздней, как отклик тех дней, настрочилось в моей статье «Песнь жизни»; статью я кончаю словами: «Мы разучились летать: мы тяжело мыслим, нет у нас подвигов; и хиреет наш жизненный ритм; легкости, божественной простоты и здоровья нам нужно; тогда найдем… смелость пропеть свою жизнь»… «Нам нужна музыкальная программа жизни, разделенная на песни-подвиги»; «в миннезингере узнаем человека, преображающего свою жизнь»; «человечество подходит к рубежу культуры, за которым смерть либо новые формы жизни»; «мы начинаем песнь нашей жизни»; «души наши — невоскресшие Эвридики… Орфей зовет свою Эвридику».
О, если бы я знал, что из всех «Эвридик невоскресших» наиневоскресшая — Н***. Она ж поняла мои мысли о жизненной песне так, что ощутил я удар в лоб, как палицею: Эвридика — она-де! Я ж — Орфей, выводящий из ада ее! И совсем не тем способом, каким замыслил; когда я узнал этот ее больной бред о Гадесе и о себе, то изумлению моему не было границ; и я круто оборвал свои посещения Н***.
Но — уже поздно!
Она вызвала меня и с плачем, с револьвером в руке, с ядом в шкапчике и с уплотнением «символов» до материальной реальности требовала, чтобы из «ада извел»; и неспроста В. Брюсов, узнавши из слов ее о наших разговорах об «Эвридике» (образ был мне навеян оперой Глюка в транскрипции М. А. д’Альгейм), — неспроста он потом в своем стихотворении об «Эвридике», об Н***, ей подставил слова: