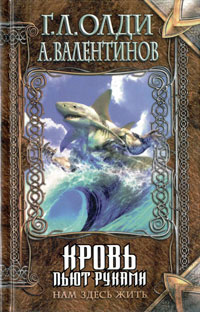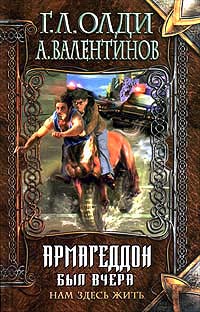Книга Механизм жизни - Андрей Валентинов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мертвец, сев во гробе, душил его.
Верный Ури не вмешивался. Великан доверял патрону: если того душат, значит, так надо. Когда-то, защищая Эминента от воображаемой опасности, он вторгся в обряд и поплатился за это неделей каталепсии. С тех пор Ури получил строгий приказ: ждать, пока ему не велят действовать.
Сейчас приказ мог стоить барону жизни.
Любой другой труп, восстань он на фон Книгге, уже корчился бы в домовине. Поговаривали, что лорд Байрон, создавая в пьесе «Манфред» образ гордого и могущественного чернокнижника, начисто переписал третий акт после случайного знакомства с Эминентом в Венеции. В частности, финал украсился монологом:
– …мне покорялись
И более могучие, чем ты,
Я вел борьбу с владыками твоими, —
Сгинь, адский дух!
Я власть имел, но я обязан ею
Был не тебе: своей могучей воле,
Своим трудам, своим ночам бессонным
И знаниям тех дней, когда Земля
Людей и духов в братстве созерцала
И равными считала их.
О нет, не былая мощь Гагарина, не тайное его искусство послужили причиной тому, что барон ничего не мог поделать с князем. Сила духа Эминента, направленная на покойника, не встречала сопротивления. Она проваливалась в ватное безразличие мертвеца – казалось, в теле не осталось ничего, что прежде оживляло его. Такое не происходит даже с полуразложившимися от времени трупами. Лишь смутный отголосок памяти – …если бы не предательство этого иуды… – толкнул Гагарина к нападению. Но он скорее напоминал один из автоматов Гамулецкого, чем умершего человека, восставшего против своего мучителя.
Ненависть угасла, не успев разгореться. Но пальцев князь не разжимал. Заговоренное от стали, огня и яда тело намеревалось довести дело до конца – механически, закоченев в последнем усилии.
– Ури!
Крика не получилось. Слабый хрип, и все. Левой рукой вцепившись в запястье князя, правой Эминент замахал великану, надеясь, что Ури поймет его правильно. Давно фон Книгге не испытывал такого унижения. Грубая сила против силы – тут Ури не было равных. Но просить могучего швейцарца отодрать от патрона бессмысленный труп…
Проклятье!
– Мы колеблемся. Мы нуждаемся в указаниях…
Язычки свечей наливались аспидной чернотой. Мутилось сознание. Ирония судьбы! – умереть в соборе, над вскрытым гробом, чтобы тебя нашел на полу сонный причетник…
– Возможно, нас после станут бранить. Но мы согласны…
Воздух! Живительный воздух хлынул в легкие. Кашляя, чувствуя, как по щекам текут слезы, Эминент растирал горло. Он не верил, что свободен. Рядом с ним Ури бережно, как дитя малое, укладывал покойного князя в гроб. Расправлял скорченные члены; проведя ладонью по глазам, закрыл веки…
– Ты спас меня, Ури.
– Нам удивительно это слышать. Нам очень хочется уйти отсюда в гостиницу. Мы хотим есть, хотим пить…
– Хорошо. Верни крышку на место.
У выхода из собора, прежде чем велеть засовам открыться, барон обернулся – и долго смотрел на тихий гроб, похожий на табакерку исполина.
– Вы тот, кого я искал, – еле слышно сказал Эминент.
И почудился ответ:
«Вы тот, кого я не желаю видеть…»
…Кровавое коло – багряный круг – исполинское пятно…
Оно разлеглось в сердце ненавистного Петербурга. Исчезли дома, сгинули ровные стрелы-улицы, ушли в землю подернутые зеленью монументы. Кровь, кровь, кровь – от горизонта до горизонта, по ровной, словно плешь, чухонской пустыне… Живых нет, лишь он один – черная муха в густой темно-красной луже. Маши крылышками, сучи лапками – не спасет. Смрад бил в ноздри, разрывал мозг, сводил с ума. Не было сил открыть глаза. Что он увидит? Трупы друзей грудами старого тряпья лежат в грязи? Лица искажены последней болью? Не крови он боялся, нет, не ее.
Но кровь, в которой он стоял, пролилась зря.
Проиграли и живые, и мертвые. Мертвецам легче, их уже ничто не беспокоит. Но что делать ему, уцелевшему? Запах гнили туманил сознание, багровые волны с плеском подступали к ногам, лизали сапоги.
Может, все-таки открыть глаза?
Станислас Пупек разлепил тяжелые, как крышка гроба, веки. Расстегнул крючки шинели, брезгливо поморщился, ожидая, пока тяжелое сукно сползет с плеч на пол.
– Сожги это, Франек. Но сперва – мыться!
Мысль о горячей ванне и намыленной греческой губке была соблазнительней, чем девка-искусница с Пряжки. Погрузиться в воду с головой, тереть мочалкой кожу – до боли, до красноты…
– Мыться!
Франек невозмутимо кивнул. Грязную шинель он держал в руках. Как и подхватил, загадка. На то и Франек – давным-давно, когда все еще были живы, приставили батюшка с матушкой к сынку-непоседе верного хлопа. Франек Лупоглазый – спокоен, как лед в кадушке. Только что вместе развозили трупы, от обоих смертью несет…
«Не беда, панёнок, – слуга улыбнулся краешком рта. – Не трать зря сердца. Развезли, по углам растыкали; живыми, вольными домой вернулись. Теперь можно и ванну…»
От этой улыбки второй раз проснулся Станислас Пупек. Рванул ворот сюртука: ванну тебе, быдло? С маслом розовым? Девки такое любят!
– Франек, друг!
Помолчал, собирая мысли, как друзей после боя.
– Ты вот что… Бери половину денег. Паспорт я тебе выправил. Уезжай! – первым дилижансом. Доберись до Познани, до наших Гадок. Там Ежи, брат мой, на хозяйстве. Он тебя помнит, не прогонит. Свечку за меня поставишь!
– Ванну горячую? Или как обычно?
На лице Франека не отражалось ничего, кроме обыденной заботы. Привередничает панёнок – ванну ему горячую, для здоровья вредную…
В последние годы все, кому до этого было дело, заметили, насколько изменился отставной корнет Станислас Пупек. Жаркий, будто головня, взрывчатый, как граната с тлеющим фитилем, гусар стал похож на собственную тень. Тихий, незаметный, скользящий. Орловский одобрял, по плечу лапищей хлопал:
«Славный из тебя конспиратор! За призрака сойдешь!»
Призрак? – нет, все проще. Взял пан Пупек на заметку: хочешь стать невидимкой, вообрази себя Франеком. Лицо слуги вспомни, глаза, улыбку. Вот ты и пан Никто! Порой срывался, оживал, но редко…
– За ошибки надо отвечать, Франек! Это я сватал на дело клятого Волмонтовича! Я Орловского уломал… И Торвена, убийцу датского, я встретил. И парней за ним я послал… Самому нужно было! Самому!
Кровавое коло, багряный круг. В том кругу, недвижимы – Анджей и Лешко, братья двоюродные. А еще тезка – Станислав, причетник из костела Святой Катаржины. Его, связного, вообще нельзя было сдергивать с места… Тело усача Анджея в переулке оставили – больно тяжел оказался. Причетника к костелу отвезли, к стене привалили. В темноте поглядишь – за живого примешь. Вышел святой человек воздухом подышать, о небесах задумался…