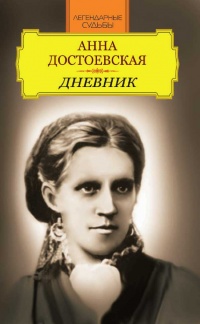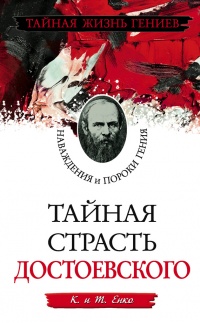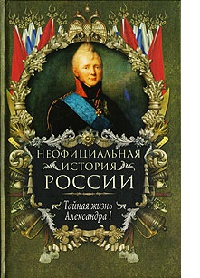Книга Последний год Достоевского - Игорь Волгин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Всего лишь несколько дней назад, 19 или 20 февраля, он «необыкновенно весел» (А. С. Суворин), полон самых радужных надежд; теперь же, после казни – недоверчив, угрюм, подавлен, готов взорваться по самому ничтожному поводу.
И наконец, существует ещё одно упоминание о присутствии Достоевского на казни Млодецкого. Это дневниковая запись уже знакомой нам С. И. Смирновой (Сазоновой). Запись сделана через неделю после казни – 29 февраля 1880, високосного, года.
«…Пришёл Достоевский, – записывает Смирнова (Сазонова). – Говорит, что на казни Млодецкого народ глумился и кричал… Большой эффект произвело то, что Мл поцеловал крест. Со всех сторон стали гов: “Поцеловал! Крест поцеловал!”»[435]
Он толкует о казни в самый день казни (у Полонских), через два дня после неё (графине Толстой), через четыре дня (великому князю) и, наконец, через неделю. Впечатление, вынесенное с Семёновского плаца, не отпускает его: этот сюжет занимает более всех других.
В разговоре со Смирновой (Сазоновой) он касается поведения толпы. Глумление над приговорённым – факт, несомненно, его поразивший. Это никак не вязалось с народными обычаями. Тут при желании можно было усмотреть несочувствие делу, за которое умирал Млодецкий. Но можно – и другое.
До сих пор в Петербурге публично казнили только цареубийц (если не считать инсценировок). Млодецкий был приговорён за выстрел в Лорис-Меликова: естественно, народ не знал, кто есть этот последний. Незначительность объекта преступления (всего лишь какой-то генерал, «не царь») как бы делала само преступление «несерьёзным», снижало образ преступника. Кроме того, смех и шутки, раздававшиеся в толпе, могли быть своего рода защитной реакцией. «Люди, – пишет современник, – как будто бы старались таким образом показать своё мужество»[436].
«Большой эффект» произвело то, что Млодецкий поцеловал крест (он недавно, в 1878 году, принял православие). Не меньшее впечатление должно было произвести это обстоятельство и на самого Достоевского. В его глазах крестное целование сближало осужденного со всеми остальными людьми. Это был, по меньшей мере, знак уважения к толпе, к её обычаям и верованиям. Разорвав со всеми земными установлениями (и, уж во всяком случае, с убивающим его государством), преступник не расторгал этой последней связи с тем, что в идеале (вспомним: «Церковь – весь народ») должно было заменить, вытеснить не внемлющую голосу милосердия самодержавную власть. И тогда – «нет казни».
Но – казнь была, и священник протягивал Млодецкому крест, отпуская ему его земные прегрешения, но не даруя земной жизни, которая этой церкви отнюдь не принадлежала.
Оставалась ли у него надежда на жизнь небесную?
К вопросу о бессмертии души
Это происходило тридцать лет назад.
…Когда аудитор закончил чтение приговора, его сменил на эшафоте священник: его появление должно было окончательно убедить их, что казнь действительно свершится. Изо всех петрашевцев к исповеди подошёл один Тимковский; к кресту, однако, приложились все. Приложился даже Петрашевский, явный атеист.
Почему же они отказались от исповеди? Ведь среди них были люди истинно религиозные (Дуров, как про него говорили, даже «до смешного»). Может быть, потому, что крестное целование – не более чем формальность, тогда как исповедь (тем паче последняя) требует, чтобы исповедующийся участвовал в обряде всем своим существом…
Князь Мышкин рассказывает:
«С ним всё время неотлучно был священник, и в тележке с ним ехал и всё говорил, – вряд ли тот слышал: и начнёт слушать, а с третьего слова уж не понимает… Священник, должно быть, человек умный, перестал говорить, а всё ему крест давал целовать… поскорей, скорым таким жестом и молча, ему крест к самым губам вдруг подставлял, маленький такой крест, серебряный, четырёхконечный, – часто подставлял, поминутно. И как только крест касался губ, он глаза открывал и опять на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жадностью целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное сознавал»[437].
Процитировав последние слова и применив их к самому автору «Идиота», Л. Гроссман пишет: «В момент такого страшного испытания вера изменила Достоевскому».
Это очень серьёзное утверждение – и оно требует не менее серьёзных доказательств. Конечно, вера его прошла «через горнило сомнений», и почти нельзя сомневаться в том, что она действительно временами изменяла ему (или он изменял ей). Но справедливо ли полагать, что это случилось именно на эшафоте?
Л. Гроссман говорит, что вере в загробную жизнь и бессмертие души «неумолимо противостояло представление о растворении умершего в природе, о его естественном слиянии с космосом, быть может, с отблесками солнечных лучей, которые и станут его «новой природой». Такое «неверие» останется навсегда основой мироощущения Достоевского, несмотря на весь его живейший интерес к вопросам религиозной проблематики»[438].
Если следовать Л. Гроссману, Достоевский был, так сказать, стыдливым пантеистом, которому оставалось сделать только шаг до «чистого» материализма. Имеется в виду известная цитата из «Идиота»: «Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышею сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от неё сверкавшие; оторваться не мог он от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольётся с ними…» Здесь действительно есть оттенок пантеистической грусти, и, казалось бы, дальше должна зазвучать более мажорная нота, свидетельствующая о здоровом оптимизме обречённого, – в связи с его скорым «растворением в природе», о сладком предвкушении «естественного слияния с космосом».
Но увы. У Достоевского звучит совсем иное. «Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны…»[439][440] Ужас и отвращение вызваны почему-то заманчивой пантеистической перспективой…
Но, может быть, этот ужас как раз и есть свидетельство веры? Именно так полагает первый биограф Достоевского – Орест Фёдорович Миллер. Основываясь на тех же самых обстоятельствах, что и Гроссман, он приходит к выводам прямо противоположным.
«Он ощущал только мистический страх, – пишет Миллер, – весь находился под влиянием мысли, что через каких-нибудь пять минут перейдёт в другую, неизвестную жизнь (в нём, стало быть, нимало не была поколеблена вера в бессмертье)»[441].