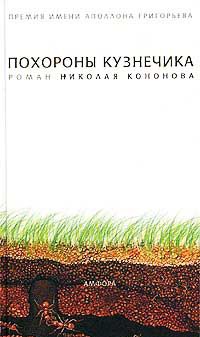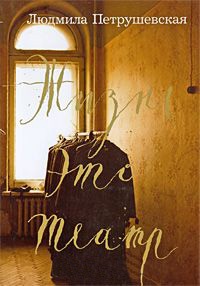Книга Нежный театр - Николай Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В доме не было чувства безопасности, но также не было точки, в которой бы сконцентрировалась катастрофа или тускло просияла меланхолия. Дом походил на свой собственный чертеж. Он был не замкнут. Походил на бланк разрешения, на чернильный штемпель, которым санитарные службы метят освежеванные туши. Какой-то выспренний символ дома. Голубоватую побелку прикрывает разворот французской газеты с программой телевидения в далеком году. Берет и пиджак утрируют распятие, будто Иисус покинул его, оставив пустой покров.
Испытываю ли я сострадание?
Как к облаку, которое вот-вот разотрет ветер. Между двумя невидимыми быстрыми ладонями. Как между ночным спускающимся небом и розовой полосой заката.
Власть истории неодолима для легковесного существа. Его скорлупа – даже не тело, и он ни над чем не имеет власти, так как отдан во всевластие зыбкости и недугу. Он – составляющая их атмосферы. В него все может проникнуть.
Убогий огород за домом, чахлая, еле взошедшая неясная ботва. Уже жухлая, полеглая как доказательство косности любых усилий по эту сторону жизни.
– Дядя Жора, давай я картошку тебе прополю что ли, – говорит добрый Толян, перехватив мой взгляд.
– Прополи, прополи.
Он посмотрел на Толяна. Между черепом и поверхностью его лица протолкнулась тупая едва заметная мимическая судорога. Он хмыкнул.
…Я вышел за калитку его дома.
С крыши свис чубом клок рубероида.
Мне грустно.
Маленький палисад перед окнами с огромными борщевиками выше меня. На сухой тростинке примостилась изумительная бирюзово-черная стрекоза, такая крупная, что кажется механической, ненастоящей. Она словно деталь неработающего аттракциона.
____________________________
За калиткой Толян опустил руку на мое плечо. Его ладонь была почти невесома. Эту легкость я ощутил как тяжесть, будто это осторожная птица, могущая вот-вот затрепетать и слететь.
Он стоял, преграждая путь. В распахнутом вороте темнела его гладкое тело. Я почуял что-то важное в нем, новое значение.
И он, глубоко вздохнув, начал, – озарив себя полуулыбкой, привечая меня этим теплым гибким регистром как лучшего друга, самого дорого гостя, – заговорил, склеивая рассыпающееся события дневного времени, само время в смутную и прекрасную плотность. Он говорил сияя, будто пел лучшую любовную арию. Качаясь в такт речи, клоня голову. До меня донеслось его волнение, непостижимо охватившее и меня, – как оно городит другие временные пропорции по закону произвола, без логики и меры:
– Во дядя Жора, даже снастей у него нет, ну что за дела. Дом править не хочет, говорит, – так помру, мне ничего не надо. А ему и так каждый рад что-то дать. У нас тут не жадные все. Вот хоть мать мою возьми. Пока я в больнице – так она всех там закормит. Все мне говорит: «Хорошо хоть врачи близко, а то ты блаженным бы стал совсем». А я и так – блаженный.
От улыбки его лицо утратило признаки возраста и обычного беспокойства. Я уловил как мягки его губы. Он мог говорить о чем угодно. Он мог декламировать таблицу умножения, перечислять названия месяцев.
Он стоял предо мной – сухой, растерянный, какой-то дивный и опрятный, вовсе не жалкий. В миг уразумев благодатность своего чувства ко мне, которое, вот наконец став явным, его настигло и одолело. Под самый конец нашей встречи.
И он продолжал, так как уже не мог остановиться. Он торопился, он не мог придумать ничего иного:
– А как у него, у дяди Жоры, баба-то померла, так про него вообще позабыли.
Он смотрел мне в глаза. Он смотрел так, словно истекал откуда-то – густой и одновременно легкой струей. Не характер его взгляда, не напряжение, связавшее нас, а это течение, у которого не было истока и конца, заполонило меня.
Я различил сколь мал его зрачок, помещающийся на светло-серой радужке – зернышком стрекозьего зародыша на вывернутом исподе перловицы, икринкой на вершине светлой сферы. На Толяне словно темнеет тень насекомого. Я почему-то погладил его по плечу, по пересохшей хитиновой рубашке, почувствовав как подалось ко мне его тело. Он словно заражал меня. Невозможностью. Я не мог произнести ни одного связного звука. Ни то что слова. Я слушал и смотрел.
Он как-то тихо тянул мелодию:
– Он может погоды угадывать заранее и вообще почти нормальный. Как мы с тобой, к примеру. А?
Он продолжал, будто мне не хватало ясности в том что он только что сообщил. Будто не мог перестать:
– Да, совсем позабыли, уже и в сельсовете перепрописываться ему не надо. Он туда трезвый идет, а его воротят, иди назад, нынче не требуется с тебя ничего, живи, дурак, так. А как только его дураком назовут, он в раж впадает, может молчать с неделю или две…
Он как-то кратко хохотнул, поперхнувшись словами как слюной, окончательно смутился. Мы стояли молча. Друг перед другом, как развернутые статуи. Как заключенные за одно и то же в две разные далекие тюрьмы. Ни подкоп ни общий побег были невозможны. Я захотел потереться о его тело, как воробей, купающийся в пыли. Чиркнуть, вспорхнуть.[67]
Краткость этого обмена, мое исчезнувшее время, вихрятся в моей голове как найденное и ускользнувшее доказательство.
Доказательство чего?
О, самого главного…
Того, что я не узнаю никогда.
Еще один толчок, одно движение…
Я хочу расцеловать его, будто опьянел. Медленно, не отрывая своих губ от его. Я своими глазами уже сделал это тысячекратно. Легко уяснил все их чувственные свойства – сухость и податливость, мягкость и отзывчивую кротость. Я знал. Уже знал как он ответит мне. Мне примерещился его язык, табачный привкус слюны и гладкость десен. Хочу, чтобы и он поцеловал меня. Меня, отнимающего у него женщину, часть женщины, часть жизни, – просто так, в силу тупой неодолимой случайности. В полном безволии и слабости. Ведь, Боже мой, по сути я не нуждаюсь ни в том, ни в другом.
Я нуждаюсь только в нем.
Вдруг я понимаю это.
Так же как и то, что моя нужда не будет утолена, и так страстно желаю его, что не могу сдержаться. Я стекаю к его ногам.
Но я сдерживаюсь.