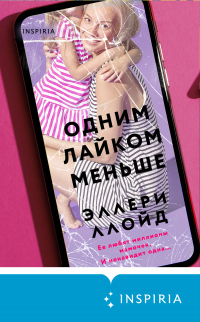Книга Еще жива - Алекс Адамс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Где-то там чужое дыхание, такое же быстрое, как и мое. Оно затихает, как только я задерживаю свое. Возможно, это наваждение, но только если там действительно кто-то есть, мне явно не поздоровится. А может, именно так и начинается паранойя? Я давно устала от этого мира, в котором меня постоянно преследует нечто, и я уже почти вижу что-то, прячущееся на периферии зрения. В прошлом, всего лишь несколько месяцев назад, достаточно было крепко держать сумку, избегать темных переулков и закрывать двери и окна, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности.
Я сильнее сжимаю веревку, соединяющую меня с Эсмеральдой. Судя по непокорному мотанию головой и возмущенному фырканью, она не рада тому, что я хочу увести ее с дороги в оливковую рощу. Но она и не должна радоваться, поскольку все, что от нее требуется, — это идти за мной, глядя мне в спину.
Кустарник и подлесок упрямо стоят на своем, не желая отклоняться под нажимом моих ботинок, гнущих их к земле и в стороны. В конце концов мы приходим к непростому компромиссу: они расступаются лишь настолько, чтобы мы смогли пройти через них, и затем возвращаются на прежнее место. Таким образом они сохраняют свое дикое чувство собственного достоинства, а мы с Эсмеральдой кое-как протискиваемся сквозь чащу.
Стена серебристой зелени поглощает нас полностью, предлагая мне обоюдоострое лезвие, которое я не могу не схватить. По одному остро отточенному краю пляшет это подражательное дыхание, в то время как по другому скользит неизведанное. Выбирай меньшее зло, которому ты не заглянул в пасть и не учел его железных зубов, или пробуй другой вариант, который может оказаться спасительным.
Однако выбор сделан, и я, подбадривая себя, двигаюсь вперед. Смех рождается у меня в горле. Это странно. Это совершенно ненормально. Каждая трагедия легла на предыдущую, и вот я уже созерцаю целую шатающуюся башню из черных глыб. И чем сильнее я в них вглядываюсь, тем менее реальными они становятся.
— Если я сошла с ума, я знаю об этом или я отказываюсь признать очевидное?
Эсмеральда никак не реагирует на мои слова. Она бредет позади меня без всяких эмоций. Мы идем тихо, хотя и не беззвучно, и я надеюсь, что звуки окружающей природы поглотят в себе наши.
— Все это не так-то просто, да?
Мы идем, и я высматриваю ее, дикую лесную женщину со змеями вместо волос.
Тогда
Ник смеется, когда я говорю ему:
— Если тебе нужно поговорить, то я в твоем распоряжении.
— Это Моррис тебя послала, чтобы ты делала за меня мою работу?
— Да.
— Но тебе этого не хочется.
— Нет, не хочется.
— Почему?
Я поднимаю на него глаза, и уголки моих губ непроизвольно загибаются вверх.
— Ты и сейчас меня анализируешь?
Он дарит мне ту полуулыбку, которая более уместна за выпивкой в тускло освещенном баре, а не в этом временном лазарете.
— Почему нет?
Я смеюсь, качаю головой.
— Даже не пытайся. Я не хочу, чтобы меня обдирали как куриную косточку.
— Почему нет?
Действительно, почему нет? Но, вообще-то, я знаю почему. Я не хочу, чтобы он рылся у меня в сознании, трогая то, что я отложила в укромное место на хранение. Там, в закоулках, прячутся разные глупые безделушки, как, например, мое к нему влечение.
— Потому… потому что легче хранить все вместе, хранить страх перед будущим, завернув его в симпатичную упаковку и положив в ящик с надписью «Не трогать». Вот поэтому. Ничего хорошего не получится, если туда влезть.
Я ожидала, что он опять засмеется, но ошиблась. Вместо этого Ник кивает. Он поднимает свои обутые в ботинки ноги и водружает их на стол. Я делаю то же самое. На секунду я задумываюсь о том, что мы, должно быть, выглядим как люди, которым уютно друг с другом, и, наверное, для какой-то части меня это действительно так. Но есть и такие части во мне, которым с Ником совершенно неуютно. Когда он тыкает в мои сокровенные места, у меня возникает желание сказать, чтобы меня не трогали.
Тем временем он сплетает пальцы у себя на затылке. Он ерзает на стуле, его взгляд скользит с моей шеи на пупок и снова поднимается, встречаясь с моим.
— Тогда разбирай меня на части. Анализируй. Делай то, что тебе приказала Моррис.
Я тяжело глотаю, мне хочется встать и выйти из комнаты, но я знаю, что двигаться при этом я буду неуклюже и скованно. А если и есть что-то, чего я сейчас не хочу, так это выглядеть хоть немного несобранной и хладнокровной. Я не хочу, чтобы он видел то, что есть. Я не хочу, чтобы он видел то, чего нет.
— Полагаю, ты похож на меня.
— Продолжай.
Его слова придают мне уверенности, мои мысли набираются сил, и мой рот вместе с ними.
— Я думаю, ты действуешь на автопилоте, делая то, что нужно делать. Часть тебя погибла на той войне, поскольку ты врач, а не убийца, и оттого, что тебе приказывали убивать, ты чувствовал себя дерьмово. Потом ты вернулся сюда, в ад, и здесь нашел все тот же разгул смерти, только тут она страшнее и больше касается тебя лично, потому что забирает всех, кого ты любишь. Я считаю, что ты хочешь меня по той причине, что я из «раньше», когда все было здоровым и нормальным. Я напоминаю тебе о том, как было раньше. Ты вожделеешь не меня, а те воспоминания, которые я в тебе пробуждаю. Я принадлежу тому, другому, а не нынешнему миру. И всякое «мы», которое могло бы быть, тоже будет принадлежать тому миру.
Сказав это, я замолкаю, после чего сижу, смотрю и жду. Поначалу ничего не происходит, но я вижу, что Ник осмысливает мои слова, и я начинаю бояться, что он подтвердит мою правоту, скажет, что он действительно хочет не меня, а прошлое, а меня только потому, что я неотъемлемая часть тех времен.
— Знаешь, чего я хочу прямо сейчас?
Тысяча мыслей врывается в мой ум, и все они связаны с мятыми простынями и скользкими от пота телами. Мои брови поднимаются, выражая немой вопрос, поскольку моим губам этого доверить нельзя.
Он ухмыляется, и я не могу понять, то ли он все-таки проник без разрешения в мое сознание, то ли мое вожделение явно написано у меня на лице.
— Кентуккийского жареного цыпленка.[43]
— Жареного цыпленка?
Совершенно не то, что я ожидала услышать.
— Да, жареного цыпленка. Но такого, как был в нашем детстве. Хрустящая корочка, подливка, капустный салат, все как положено.
— Тогда, когда фастфуд еще не стал слишком быстрым, чтобы оставаться хорошим.
— Именно так, — говорит он.
— А я бы убила за пиццу.