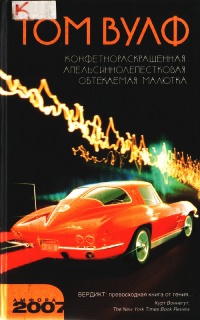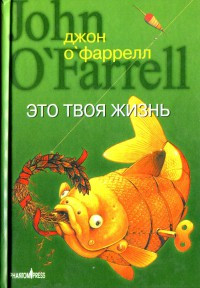Книга Новая журналистика и Антология новой журналистики - Том Вулф
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Полицейский приложил к груди дубинку, словно прикрываясь ею. Мейлер удивился — он втайне надеялся, что его противники окажутся невозмутимыми силачами. А как же иначе — ведь они хорошо вооружены. Но полицейский весь дрожал. Это был молодой негр, явно с примесью белой крови, и он «походил на жителя небольшого городка, где почти нет негров, не выглядел он обитателем Гарлема, не было в нем ни надменности, ни по-настоящему темной кожи, ни свойственной неграм мощи — просто мальчишка в военной форме с застывшим в глазах ужасом. «Ну почему, почему именно я стою здесь?» — казалось, вопило его бледное окаменевшее лицо.
— Назад, — прохрипел он Мейлеру.
— Если ты меня не задержишь, я пойду к Пентагону.
— Нет. Назад.
Мысль о возвращении — «Если они не задержат меня, что тогда делать?» — после пройденных десяти ярдов казалась совершенно неприемлемой.
Когда полицейский говорил, он поднял дрожащей рукой дубинку. Мейлер не знал, дрожит ли дубинка от желания полицейского нанести удар или у него самого появилась некая агрессивность, которая вызвала дрожь в руках молодого солдата. Какая-то странная и неодолимая сила, как у вращающегося гироскопа или медленного водоворота, заключалась в этой дрожащей дубинке, и принуждаемый ею полицейский начал медленно отворачиваться от троса, а писатель отвернулся от него; они продолжали смотреть друг на друга, пока линия, проходящая через их плечи, не стала перпендикулярной тросу; они поворачивались, не соприкасаясь, дубинка продолжала дрожать, и вот уже Мейлер оказался позади полицейского, обошел его, прибавил шагу и почти побежал к следующей линии полицейских и, повинуясь внезапному инстинктивному решению, быстро обогнул ближайшего полицейского второй линии, пересек эту вторую линию, как защитник в американском футболе вырывается на простор, — очень точное сравнение, и он сам удивился, как легко прорвался через ряды полицейских. Они пришли в оцепенение. Удивленные лица, когда Мейлер шел мимо. Они не знали, что им делать. В своем темном костюме в полоску, жилете, малиново-голубом галстуке, с пробором в волосах, выпуклой грудью и небольшим животиком — он наверняка походил на банкира, помешанного банкира! А потом Мейлер увидел справа Пентагон, не дальше чем в ста ярдах, а чуть слева — полицейских начальников, и он потрусил к ним, приблизился вплотную, и они закричали:
— Назад!
Он словно наткнулся на этих суроволицых мужчин с испепеляющими его серыми глазами и сказал:
— Я не уйду. Если вы не задержите меня, я пойду к Пентагону.
И он знал, что так и сделает, он обрел уверенность, и они набросились на него с кровожадной яростью, как все полицейские в момент атаки — хотя все полицейские в эти мгновения тайно желают быть поверженными за свои грехи, — и его голос обрел небывалую силу, и он закричал, немного сам наслаждаясь этим своим новым достижением и властью:
— Уберите от меня свои руки! Вы что, не видите, я не сопротивляюсь аресту?
И тут же один полицейский отпрянул, а другой перестал заламывать Мейлеру руку, они подхватили его с обеих сторон под мышки и с бешеной скоростью повели по полю, параллельно стене Пентагона, который в последний раз был виден ему справа, и его арестовали, как он того и хотел; обошлось без ударов дубинкой по голове, воздух в его легких был по-горному разреженным и едким, как дым, да, обжигающий воздух баталии обещал ему нечто гораздо более интересное, чем скучное ожидание освобождения; он был не просто гостем, он находился на вражеской территории, лицом к лицу со своими противниками.
«Полицейский налет 80», или «За рамками закона»
Романисты любят сделать паузу на самом интересном месте (некоторые считают этот прием нечестным), довести читателя до белого каления, чтобы он, независимо от уровня культуры, опустился до обыкновенного животного и, задыхаясь от нетерпения, вопрошал: «Ну а дальше? Что случилось дальше?» И в этот момент писатель — законченный садист — делает отступление, полагая, что после этого читатель станет в его руках послушной марионеткой.
Подобное успешно практиковалось в викторианскую эпоху. Сейчас такой номер не пройдет. Читатель при первых же признаках писательского выпендрежа просто отложит книгу в сторону и включит телевизор. Поэтому романист вынужден извиняться, даже рассыпаться в извинениях, когда вдруг приходится отвлечься от основной сюжетной линии, ему необходимо снять с себя ответственность за использование этого приема, доказать его необходимость.
Так что романист сегодня оправдывается. Например, если ему нужно на какое-то время отвлечься — правда, по необходимости, — чтобы завязать узелки новых сюжетных линий, которые будут сопровождать повествование до самого конца. И надо признать, читатель справедливо ждет чего-то впечатляющего — главное действующее лицо должно быть не только свидетелем и участником происходящих событий, но и само постоянно подвергаться нелицеприятной оценке. Норман согласился — и сам счел это непростительной слабостью — с просьбой молодого английского кинопродюсера по имени Дик Фонтейн сняться в документальном фильме для британского телевидения. Однако первые пробы не доставили ему большого удовольствия, потому что приходилось сидеть в кресле и говорить что-то умное перед камерой. А Мейлер, попросту говоря, был далеко не Арнольдом Тойнби и не Бертраном Расселом (возможно, даже не Эриком Голдманом), к тому же Мейлера как интеллектуала постоянно подводил голос — при его звуках всем почему-то становилось ясно, что обладатель этого голоса знает намного меньше, чем хочет изобразить. Увидев первые снятые кадры, он остался собой недоволен. Для воителя, будущего полководца, чуть не ставшего политиком, задиристого enfant terrible[125]литературного мира, заботливого отца шестерых детей, циничного интеллектуала, философа-экзистенциалиста, плодовитого автора, непревзойденного матерщинника, мужа четырех сварливых женушек, завсегдатая баров, знаменитого уличного бойца, устроителя вечеринок и завзятого отельного скандалиста — на экране он выглядел слишком бледно, одно только не вызывало сомнения: что он симпатичный еврейчик из Бруклина. И как-то Мейлер печенками почувствовал, что не нужно ему все это, — а вырастила его любящая мамочка. И решил он покончить с такой документалистикой. К нему подкатывались талантливые киношники вроде братьев Майслесов — но он остался неприступен. Однако Фонтейн, которого ему рекомендовала юная английская леди, проникнувшаяся симпатией к романисту, благодаря своему бычьему британскому упрямству вытянул из Мейлера обещание сделать его вместе с командой участниками нескольких самых многообещающих проектов писателя. И все дела.
И теперь надо было что-то делать во исполнение обещания. Шел первый день съемок второго фильма Мейлера (который предварительно назвали «Полицейский налет 80», а потом переименовали в «За рамками закона») — о детективах и подозрительных личностях в одном городском районе. И у Мейлера имелась своя теория, как надо снимать фильмы. Мейлер любил брать людей, у которых что-то накипело, и так раззадоривать их во время съемок, что те забывали о камере. И его не волновало, есть ли у них артистический опыт. Именно в этом и заключалась его теория — наверное, не слишком оригинальная, — что многие люди, никогда не снимавшиеся в кино и не умевшие что-либо сыграть без предварительного обучения, на самом деле обладали выдающимися артистическими способностями, которые могли обогатить фильм, надо только, чтобы они сами, без всякого сценария, находили, что сказать. Очень жизненная теория, которая давала простор режиссеру и одновременно сковывала его; Мейлер в первый день съемок внес в них свою лепту, когда привлек к работе три операторские бригады и раскручивал своих подопечных в разных помещениях одновременно, так что вопли и стенания одних мешали мирным беседам других. Все это светопреставление с разными камерами, актерами и мизансценами происходило на одном и том же этаже (как в полицейском участке в самые горячие часы), и на актеров общая суматоха действовала магически — а Мейлеру после первых отснятых эпизодов вдруг пришло в голову, что, вполне возможно, он по наитию или случайно принимает участие в создании лучшего американского фильма о полиции. И конечно, это был первый фильм на тему преступления и наказания, который не следовал голливудским канонам. В фильме происходило нечто неслыханное — то есть экзистенциальное — дело принимало нехороший оборот при любых взаимоотношениях полицейских и преступников: и его полиция была самой интересной полицией, которую он видел в кино, а его криминальные личности ни в чем не уступали самым симпатичным гражданам на наших улицах.