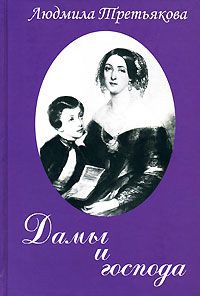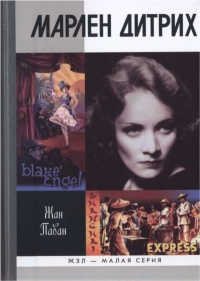Книга Незакрытых дел – нет - Андраш Форгач
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В 1688 году швейцарских солдат, служивших не так уж и далеко от дома, по большей части в качестве наемников, поразила загадочная болезнь, симптомами которой, среди прочего, были эмоциональная лабильность, беспросветное отчаяние, приступы неуемных рыданий, анорексия и попытки самоубийства; швейцарский врач Иоганнес Хофер соорудил тогда для обозначения этих симптомов из слов νόστος (возвращение) и ἄλγος (боль), встречающихся и в «Илиаде», выражение «ностальгия», которое впоследствии сделало столь блистательную карьеру и которое ни в коем случае не следует путать с тоской по родине. Хофер, например, наблюдал случай ностальгии у молодого человека, переехавшего из Берна в Базель, то есть оказавшегося в каких-то сорока километрах от родного города. О корнях недуга, поразившего швейцарских наемников, Хофер пишет в своей диссертации: «Причины этих болезней мозга, по существу, демонические», так как «животные духи подвергаются в среднем мозгу непрестанной встряске со стороны тканей, еще сохраняющих полученные на родине острые впечатления». В 1732 году другой швейцарский врач доказывал, что причиной ностальгии служит «резкая перемена атмосферного давления, которое подвергает тело чрезмерному воздействию, гонит кровь из сердца в мозг и тем самым вызывает наблюдаемый нами эмоциональный недуг». Тогда еще повсеместно считалось, что ностальгия – болезнь специфически швейцарская: надежные и хорошо подготовленные швейцарские солдаты служили наемниками в самых разных армиях по всей Европе, и некоторые военные врачи уже высказывали спекулятивные суждения, что, быть может, причина болезни кроется в том серьезном ущербе, который наносит барабанным перепонкам и клеткам мозга беспрерывный перезвон колокольчиков, доносящийся от пасущихся в Альпах коров. А еще говорят, что в начале XIX века один русский генерал вылечил внезапно появившуюся и быстро распространявшуюся в его частях ностальгию неожиданно успешным методом погребения заживо.
Для Брурии единственным методом излечения стал бы переезд на родину, но это было невозможно, так что после каждого возвращения оттуда ее охватывали все более тяжелые приступы ностальгии. Хотя, возможно, и переезд ничего бы не решил, ибо смутным объектом ее желания была давно ушедшая на дно страна, подводный мир, Палестина, в которой еще жили вместе два народа – под чужой, правда, властью. Симптомы на некоторое время затухали, чтобы стать потом еще более мучительными. Сенную лихорадку, которая терзала ее с весны до самой осени, это уж точно усугубляло до невыносимости, и Брурия отдавалась страданию, как если бы это могло заглушить безумную ностальгию, из-за которой она была готова, как лемминг, броситься со скалы на верную смерть.
В какой-то момент – она этого и не заметила – ее заточили в стране, причем в стране, где она не хотела жить, хотя некоторое время думала, что захочет, в стране с чужими запахами, чужими красками, чужим языком, в условиях системы, которая, как ей говорили, была лучшей в мире и которая оказалась одной из худших (но она приспособилась, многие годы делала вид, будто и вправду этого хочет), в стране, где она так навсегда и осталась чужой, потому что стоило ей заговорить в трамвае по-английски или вдруг на иврите, на нее доносили – это было еще в пятидесятых годах, в знак предостережения, и этим предостережениям не виделось ни конца ни края, они не убывали, а только множились. Но пути назад не было.
В 1983 году я привез ей в подарок из Западного Берлина открытку, купленную в Gemäldegalerie в Далеме (до воссоединения города большое художественное собрание размещалось там). На открытке была знаменитая картина Брейгеля-старшего: две обезьяны, вдали – порт Антверпена, обезьяны сидят в большом сводчатом окне, прикованные цепями к общему кольцу, одна из них уставилась на нас, зрителей, другая, удрученная, как будто окуклилась, на подоконнике рядом с ними – расколотая скорлупка фундука или грецкого ореха. Когда я вручил ей эту открытку, Брурия рассматривала ее как заколдованная, как будто художник в 1562 году схватил в этой картине всю ее жизнь. Она дважды вышивала этих обезьян, хотя оригинала никогда не видела. И каким-то чудом увеличила картину в точности до размеров оригинала – к тому моменту в вышивании для нее не было ничего невозможного, – и прямо заявляла гостям, вежливо интересовавшимся, над чем она работает, что две эти обезьяны – она и мой отец.
Они оба были обитателями «нигде» – ни венгры, ни евреи, ни чужаки, ни товарищи, ни соотечественники. Для товарищей они были евреями, для евреев – коммунистами, для коммунистов – венграми, для венгров – чужими. Безродные патриоты. Насельники шеола[153], они стали обитателями ада, их личного ада. Вечному жиду необязательно, конечно, вербоваться в агенты – и своих бед столько, что ему скитаться до самого Судного дня.
А тут еще, в качестве вишенки на торте, появляется «дело Рапчани». Брурия, как и ее куратор, последовательно пишет фамилию Ласло Рапчани[154] с ошибкой (Rapcsány вместо Rapcsányi), из чего я делаю вывод, что старший лейтенант Дора самой книги в руках никогда не держал и понятия не имел, о чем идет речь, – его занимало только одно: как бы мамино письмо не получило общественной огласки. Из-за этой книги об Иерусалиме мама слетела с катушек. Но из доклада старшего лейтенанта от 13 апреля 1984 года видно и то, как работает система «ты мне – я тебе»: предназначенное для общественной огласки письмо они не поддерживают, но живущий в Америке израильский племянник без проблем получает визу.
РАПОРТ
Будапешт, 13 апреля 1984 г.
Докладываю, что 9 апреля 1984 года в 15:00 в доме ветеранов им. ФЕРЕНЦА РОЖИ провел встречу с секретным сотрудником под кодовым именем Г-ЖА ПАПАИ.
На встрече мы предполагали обсудить следующие темы:
– ЛАСЛО РАПЧАНИ: книга «ИЕРУСАЛИМ».
– Дело ГРЕГОРА ЦВИ.
Г-ЖА ПАПАИ выразила свое глубокое возмущение тем, что в Венгерской Народной Республике могла выйти книга Рапчани, с каждой страницы которой так и пышет сионизмом. Г-ЖА ПАПАИ вручила прилагаемый проект письма, которое она намерена отправить товарищу БЕРЕЦУ[155] (прил. № 1).
В споре, который развернулся в связи с этим посланием и необходимостью его написания, я старался убедить Г-ЖУ ПАПАИ, что, хоть я и понимаю ее возмущение, я не считаю полезным или целесообразным отправлять письмо в такой форме куда бы то ни было, поскольку это может ударить как по ней самой, так и по нашему оперативному сотрудничеству.