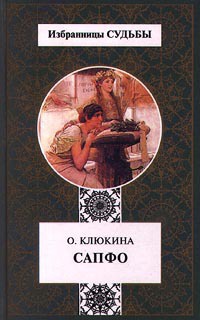Книга Сердце Сапфо - Эрика Джонг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Весь остров погрузился в траур. Меня восхитило, как Питтак обставил уход моей матери. Неудивительно, что долгая вражда между Афинами и Лесбосом породила такого правителя. Во время войны люди обращаются к героям и богатырям, с готовностью наделяя их чрезвычайными полномочиями. Люди рассуждают о мире, но война укрепляет власть тиранов и военачальников. И так будет всегда, пока мужчины остаются мужчинами. Стремление к господству у них в крови. Мы, женщины, могли бы установить мир, если бы не жили в мире мужчин как покоренный народ. Но, увидев, что плохая правительница может испортить и амазонок, я не питала больших надежд на будущее человечества, вне зависимости от пола. Почему боги так легко разрешают нам убивать друг друга? Может быть, они, бесконечно скучая на своем Олимпе, таким образом развлекаются? Это было единственным объяснением, в котором я видела хоть какой-то смысл. Война между Лесбосом и Афинами длилась долгие годы. Когда уже казалось, что мир неминуем, к нашим берегами прибывала новая эскадра военных кораблей. Население страшилось мира после стольких лет войны. Люди отступали от Митилены в глубь острова, чтобы переждать кровопролитие. Потом снова воцарялось спокойствие. А потом опять начинались военные действия. Но после стольких лет кровопролития истощились силы даже у афинян. Когда война закончилась, и Питтак, и народ смягчились. Теперь, став верховным правителем, который мог не страшиться за свою власть, Питтак позволил себе быть добрым. Он стал мудрецом. Он и выставлял себя таковым, поощряя поэтов и актеров и приглашая ко двору философов. Он хотел, чтобы после смерти о нем помнили как об одном из Семи мудрецов.
— Даже Алкей может без всякой боязни вернуться домой, — сказал он мне. — Но он, похоже, предпочитает Египет. В душе он всегда оставался бродягой.
Когда он сказал это, я начала плакать. Питтак обнял меня, словно решив, что он мой настоящий отец.
— Пора тебе снова начать петь.
— Что толку? — сказала я. — Песни ничего не меняют. Они не могут остановить войну или кровопролитие. Не могут воскресить из мертвых или не допустить, чтобы детей похищали у матерей. Или оживить любовь. Я всю жизнь сочиняла песни. А теперь готова замкнуть уста.
В своем отчаянии я действительно была готова к этому, но музы время от времени еще подталкивали меня под локоть, словно говоря: попробуй еще раз. Но все мои попытки заканчивались ничем. Сердце ушло из моего искусства.
Я попыталась сочинить песню, посвященную смерти моей матери, но не смогла. Прощальные слова застревали у меня в горле.
«Когда мы передавали тебя в бессветные покои Персефоны, — начала я, — Ветер сотрясал дубы на горе, как скорбь сотрясает мое сердце».
Но эта попытка ничуть не передавала мою боль. Ведь я была сочинительницей не элегий, а любовных песен, а любовь навсегда покинула меня.
Когда пришло время делить драгоценности моей матери, Питтак разложил их все на лидийском ковре во дворе своего дома. Мы с Клеидой и Родопис должны были по очереди брать то, к чему лежало наше сердце. Но стоило мне выбрать ожерелье или колечко, как Родопис топала ногой и кричала:
— Это было обещано мне!
После чего падала, вопила и колотила по земле кулаками.
— Только не говори мне, что плачешь из-за колечка, Родопис, — сказала я.
— Я любила ее. Я любила ее, — выла Родопис. — Я плачу по ней — не по драгоценностям.
Какая мне была разница, кому достанется большинство золотых побрякушек? Я отдала Родопис ожерелье и колечко, которые она хотела, и сережки к ним. Я отдала ей золотые застежки в виде дельфинов, инкрустированные драгоценными камнями, — моя мать часто носила их. Я отдала ей сережки, хитроумно выполненные в виде прыгающих дельфинов, и диадему из золотых оливковых листьев. Я отдала ей золотые сережки в виде бараньих голов. Сколько бы я ей ни отдавала, она вопила, что ей нужно еще. Наконец осталось золотое ожерелье в виде змеи с рубиновыми глазами и хвостом, который хитроумной застежкой закреплялся на змеиной шее. Я помню, моя мать носила его, когда я была маленькой. Она носила его вместе с сережками в виде змеек, которые теперь не снимала Родопис.
— Она была моей матерью! — закричала я. — Отдай их, по крайней мере, Клеиде. Мне самой ничего не нужно!
— Я любила ее так, как если бы она была моей матерью, — завыла Родопис. — А потом, эти сережки и ожерелье идут в одном комплекте!
Тут даже я не смогла сдержать смеха. Но Родопис не нашла в своих словах ничего смешного. Напротив, она снова упала на землю и стала биться о нее. В итоге пришлось вмешаться Питтаку, который и поделил наследство. Я получила золотую цепочку с крохотными висюльками в виде айвы. Я ношу ее каждый день. Я часто сплю, не снимая этого украшения.
Но даже боль утраты лечит время. Как бы печаль ни одолевала меня, я была счастлива вернуться на родной остров. Я бродила с Клеидой среди оливковых деревьев, рассказывала ей о моих приключениях, о моей любви к ее отцу Алкею, о моем отчаянии, когда я лишилась ее. Я рассказала ей историю о ее болезни и заклинании Исиды… хотя мою любовную историю с Исидой я и пропустила. (Дети никогда не интересуются такими вещами.) Поверила ли она в мою версию событий? Я знаю — она хотела верить.
Я посетила семейные виноградники, возрожденные трудами Родопис, и вступила во владение домом моих деда и бабки в Эресе.
Я почти забыла о своем призвании. Но слава обо мне распространилась широко — мои песни пелись по всей Греции. Семьи из Афин, Сиракуз, даже Лидии хотели присылать ко мне своих дочерей, чтобы я выучила их искусству игры на лире и сочинения песен. Я стала невольным наставником следующего поколения.
Клеиде это очень не нравилось. Она так долго тосковала по мне и теперь не могла смириться с тем, что меня отрывают от нее. Она высмеивала моих учениц. Она хотела, чтобы я жила с ней и растила ее сына Гектора, красивого маленького мальчика, такого же черноволосого, как я, а не занималась сочинительством песен. У меня таяло сердце, когда я видела моего внука. Я его обожала. Но я не могла сделать то, что сделала моя мать, — похитить ребенка у его матери. Я его любила, но знала, что мать ему нужнее меня. Клеида не могла понять моей сдержанности. Она считала, что я не даю волю своей любви. В наших отношениях появилась трещинка.
Нет, конечно, она появилась еще раньше. Начало ей положила клевета на меня — будто бы я бросила Клеиду. Источником этой клеветы была Родопис. Я рассказала Клеиде истинную историю, но она не поверила в нее до конца. Она боролась со своими чувствами. Она хотела любить меня, но боялась быть брошенной еще раз.
«Ну что ж, — говорила я себе, — со временем все образуется. Она поймет, как сильно я всегда любила ее».
Но нет, по мере того как я входила в роль наставницы юных красавиц, прибывавших из других краев (Дика, Гиринно, еще одна Анактория, еще одна Аттида, еще одна Гонгила), в Клеиде копилась ревность. Я пыталась объяснить ей, что мои ученицы не могут соперничать с моей дочерью, но она мне не поверила. Она хотела, чтобы я обожала ее тело и душу, чтобы я обожала ее сына. И я обожала! Но учительство спасало мою жизнь. Без него — в отсутствие любви к Алкею — я бы зачахла.