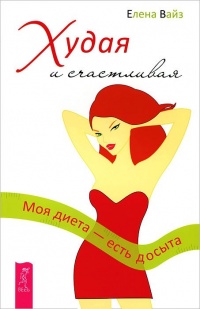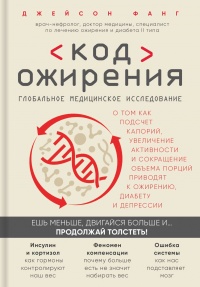Книга Солнце и смерть. Диалогические исследования - Ганс-Юрген Хайнрихс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но, работая над книгой о «Глобусах», я вполне сознавал, что пути, ведущие от интимной сферы к макросфере, могут быть разными – и что, кроме шара, возможны и другие фигуры, обеспечивающие распространение интимных форм вширь, с превращением их в крупные формы. Кстати сказать, в третьей главе второго тома «Сфер II», который называется «Глобусы», я рассмотрел планы античных городов и вложенный в них иммунологический смысл – недопущение вредоносных влияний извне; я при этом указал на то, что, окружая города стенами, люди античности не особенно стремились соблюдать форму круга. Скорее, главным для них было, что при морфологическом различии исходных фигур – круга, овала, квадрата, треугольника, четырехугольника – везде реализовалась одна и та же пространственная идея, а именно: воплощалось представление о пространстве, в котором можно было бы жить, успешно обживая его. В расчет принималась прежде всего пригодность этой формы пространства для обитания. Тем же обусловлено и представление о том, что надо селиться на такой земле, которая находится под особой защитой как верхних, так и нижних богов, – концепт, который лучше всего можно объяснить на примере римлян. Ведь pomerium римлян – то место, с которого начинался город с его священными границами, – представляет собой несомненный результат применения территориальной магии – колдовства, которое обеспечивало создание защищающего внутреннего пространства. Внешние контуры этого «священного центра» были непостоянными и неоднократно изменялись в ходе истории. Таким образом, самые разные в морфологическом плане фигуры могут связываться с представлением о возможности заселить и обжить (Bewohnbarkeit) некоторое пространство – или, если выразиться иначе, с восприятием мира как «перво-обиталища». При этом с самого начала возникает мысль о том, что всякое проживание подразумевает перенос туда – или, если использовать жаргон Делёза и Гваттари, детерриторизация всегда сопровождается ретерриторизацией. Люди проживают, проецируя Где-то-там на Здесь. Не существует никакого места без различения Здесь и Там; такое различение обеспечивает первичная интуиция гумантопологии (Humantopologie) [204]. Да, вероятно, понятие «экзистирование» обозначает не что иное, как осуществление этого различия.
Позволю себе мимоходом заметить, что у меня и у моего коллеги из Берлинского университета им. Гумбольдта Томаса Махо давно намечались несколько проектов в области философско-морфологической истории культуры, развивая которые мы намеревались проработать как бы с точки зрения всеобщей истории те образы-гештальты, которые обрели важное значение для культуры, – не метафорологически, как это сделал Блюменберг [205], а с точки зрения теории формы. Шаром я еще до этого занимался в одиночку. О Т. Махо мне было известно, что ранее он проводил масштабные исследования некоторых других фигур, в особенности – образа-гештальта дерева. Ведь невозможно даже представить себе, сколь мощно развернут мотив дерева в различных цивилизациях, но прежде всего – в субкультурах нашей собственной традиции: с одной стороны, в теориях познания, с другой – в генеалогических и онтологических моделях. Едва ли не везде, где приходится мыслить себе ответвления и разветвления, непременно возникает и образ ствола – этого массивного образования посредине, соединяющего сферу корней и сферу кроны, в силу чего образ дерева почти неотделим от космоса фантазий о первопроисхождении, первоистоке. Причиной тому – отождествление в воображении матки с корнем, семантическая операция, которая происходит практически во всех агрометафизических картинах мира. Известен существующий в большинстве традиционных языков паралеллизм между растительным и животным регистрами. Однако нельзя утверждать, что эти феномены исследованы в достаточной степени. Вопреки всем слухам о постметафизическом мышлении и деконструкции, этот комплекс еще ждет подобающего ему исследования и изображения – ведь и мои де-конструктивные и ре-конструктивные воспоминания о шаре оказались, скорее, ошеломляющими для большинства читателей. Я признаю, что был чересчур нетерпелив – и осмелился прочитать наконец историю философии sub specie arboris[206].
Г. – Ю. Х.: Можно ли сказать, что ризоматическое мышление, пережившее расцвет в последнее время, обнаруживает некоторые мотивы, родственные Вашим, – хотя и ставит перед ними противоположный знак?
П. С.: Это верно. Один из интереснейших заделов в изучении логики дерева и онтологии дерева можно найти, конечно, у Делёза и Гваттари во второй части «Капитализма и шизофрении» – причем бросается в глаза, что дереву у них отводится злодейская роль в той части, которая посвящена критике идеологий. Этим авторам пришлось заплатить за обретение своего нового ключевого образа – ризомы – определенной арборофобией (arborophobie), лесобоязнью. О причине этого догадаться нетрудно – ведь Делёз с отвращением относится к идее происхождения из корней, прежде всего – корней неразветвленных, уходящих глубоко в почву и представляющих собой как бы единственный первоóрган, из которого происходит все: это – квазитоталитарное соединение сил, которые идут снизу и питаются из одного-единственного канала, из одной монополизированной «основы». Дерево и устройство его корневой системы еще слишком сильно напоминают о том Едином, Одном. Господствующем, Сливающемся в Один Звук, которое следует философски преодолеть. Поэтому Делёз и Гваттари хотели заменить парадигму дерева на парадигму подземной грибницы, мицеллического сетевого образования, на сетевую жизнь клубненосных растений, латеральных боковых отростков, разрастающихся вширь. При такой перестановке акцентов, вероятно, упускается из виду то, что ризома вовсе не обязательно представляет собой альтернативу дереву; на нее можно смотреть и как на более простую, во всяком случае, на более плоскую структуру – ведь все, что делает мицелла, или ризома, может на свой лад осуществлять и дерево, прежде всего тогда, когда оно выступает как часть леса, то есть ризомы особого рода, только дающей при этом еще и более сложную дифференциацию по вертикали. Во всяком случае, следует согласиться с тем, что дерево обладает аристократической сложностью организации, оно разветвляется, выходя из органического центра, оно не делает тайны из своей высоты, тогда как ризома репрезентирует анархистский и неиерархический тип комплексности. Этот тип заменяет родство соседством, или – что то же самое – он превращается в сеть; это имеет решающее значение для более современной, горизонтальной и антигенеалогической метафоры. Ризома полиорганизмична и поэтому позволяет возникнуть базисно-демократическим ассоциациям, тогда как дерево рисуется совершенно моноорганизмически – и ему приходится выступать символом монократии или тоталитаризма. Дерево – это государство, а ризома – это подполье: левак старого типа недолго будет раздумывать, что ему выбрать. Смысл программного сочинения Делёза и Гваттари «Ризома» сводится к следующему: нам непозволительно больше верить в деревья, потому что мы уже достаточно от них настрадались. Мы устали от деревьев! Вместо этого они восхваляют – как тысячу плато — подлесок и дикоросы, выходящие на поверхность корни, боковые побеги, анархистские корневые сети с клубнями; они восславляют клоны и всячески превозносят, как мы понимаем теперь, Интернет, знать о котором в 1980 году они еще не могли. При чтении этой из ряда вон выходящей книги осознаешь, насколько сильно сближаются и становятся похожими логика клонирования и логика Интернета – и та и другая делают ставку на распространение вширь и вбок , на создание Сети.