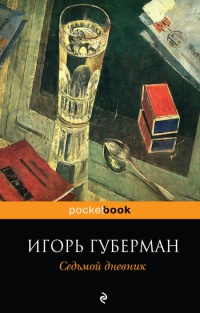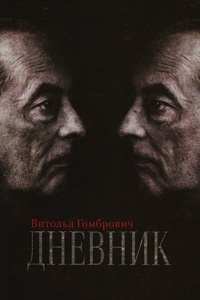Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из разных комнат снесли стулья, стаканы и вилки. Все поначалу дружили — офицеры, актеры, цирковые — целовались, пели, обжимались в темных закутках коридора. Но к Тане Борис не подходил. Клоун — маленький, толстый, чудовищно сильный человек с безбородым розовым и гладким лицом — бегал с бутафорской гирей за своей высокой, худой женой, акробаткой-каучук. Борис его унимал, обнимая. Клоун отпихивал его с криком:
— Отойди! Замучили! Евреи!
— Я еврей? Я замучил? — оскорбился Борис и вырвал у него гирю.
Виновник торжества, прошедший всю войну, приказывавший разведчикам, ходившим с ним в тыл к немцам, отрезать головы погибшим товарищам, чтобы начальство могло удостовериться, что они действительно погибли, а не попали в плен, напился ужасно. Сашка, столкнувшись с ним, в майке и папахе шатающимся от стены к стене по коридору, увидел, как два темных маленьких кожистых дьявола, один за другим, вылетели — вырвались — из него, шипя и фукая, как петарды при взрыве, и, осветив коридор красным пышущим светом, по двум раскаленным трассам унеслись…
Глубокой ночью вдруг кто-то из коридора ударом ноги выбил белую двустворчатую большую дверь, ворвался в их комнату и поднял над головой тяжелый стул — кого он хотел ударить в пьяном безумии? Борис мгновенно вскочил с кровати и вышиб его из номера кулаком, стул с грохотом упал из его рук. Сашка в каком-то полузабытьи тоже встал с кровати, поднял с пола стул. Утром Борис долго — под это дело — пил и всем заходящим каждый раз с начала рассказывал и показывал эту историю. Кто был тот человек, лица которого так и не видели, почему он ворвался, с кем перепутал — перепутал ли — все осталось тайной. Человек был огромный, как великан, — или показалось со сна? И стул Сашка поднимал вроде бы во сне. Поднял, сразу же лег в свою кровать и снова заснул. Это тоже было потом предметом обсуждения и шуток — под утреннее вино.
Написал и подумал: а что, если ночной гость на самом деле и был тот дьявол, вырвавшийся из новоиспеченного полковника и увеличившийся до огромных размеров?
Наброски из ненаписанного романа
Тем же утром Владимир Степанович в умывальне пил и не мог напиться ледяной водой из-под крана. Сашка с зубной щеткой и порошком ждал своей очереди. Полковник, со стоном отрываясь на мгновение от крана:
— Сашка, смотри у меня! Никогда не пей! Убью!
Сашка шел из умывальни. Коридор был полон солнца. Зоя — светящаяся, прозрачная — со светящимся ребенком на руках — купать девочку. Проходя мимо него, негромко:
— Пожалуйста, не ходи больше туда, когда я ванной.
Так, ничего себе… Значит, все это время она…
В номере — дверь уже укрепили на петлях — Борис, поставив ногу на Сашкину кровать, стриг ногти. Желтоватые твердые серпики, как бумеранги, со свистом летали по номеру. Мама стояла в углу у керогаза.
И он понял, что больше не может так жить.
— Мама!
Сашка был совершенно уверен в эту минуту, что мама будет благодарна ему, когда он откроет ей всю правду.
Я бы так сделал?
Непонятно кем и когда внушенное — никого не выдавать. Даже если надо. Правда, до самых страшных испытаний дело, по счастью, не доходило.
Впрочем, Сашка — не я.
Как я там написал в начале этой части? “Страшный, от Рождества Христова 1953 год…” Для Сашки. А для меня?
Смерть Сталина и все последующее выводило нас в какое-то новое пространство мысли и чувства. Отношения к поэзии, как ни странно. Отношений между людьми, наконец. Отношения к власти, прошлому, к революции.
Это было время, когда прозревали не только слепые.
Символически это год рождения меня как человека, того самого, кем я пытаюсь оставаться до сих пор. И — знаю — для части моих сверстников тоже.
От этого перекинут мост в 15 лет. 68-й. Танки в Чехословакии. В 13, конечно, всё острее и грандиознее, чем в 28, но и это событие тоже казалось роковым. Впрочем, сколько впереди еще так или иначе похожих “роковых” насчитала наша История, в которую мы имели удовольствие попасть, как кур в ощип.
“Миф есть личностное бытие, данное исторически”.
“Достоевский” не прошел через ЦК. И тогда хитрый Вайншток придумал зайти с другого фланга. Там, где цензура была настроена вполне благодушно. Он решил тряхнуть стариной, то есть собственной режиссурой, в которой были знаменитые “Дети капитана Гранта” с музыкой Дунаевского и “Остров сокровищ” с песней Никиты Богословского “Если ранили друга…”. В связи с чем он — в том же 68-м — усадил меня за экранизацию “Всадника без головы”.
Майн Рида я не любил в детстве, казался скучным рядом с Дюма. И сейчас я тосковал над романом. Еще и Вайншток стоял над душой, рвущейся из Болшева в Москву на просторы вольной жизни — к веселым друзьям, Вале Туру и Юре Хорикову.
“Пашенька, Пашенька… — нашептывал Вайншток, бдительно — да не совсем! — охранявший меня от них, — герой обязательно должен быть настроен революционно по отношению к плантаторам. Он обязательно должен быть другом индейцев”.
Романтический персонаж, мустангер Морис Джеральд? Ну, ладно еще друг индейцев, куда ни шло, но революционер? Дудки! И тут в моем номере начинался, как говорил Остап Бендер, “бой при пирамидах”. Вайншток, становившийся красного цвета, колобком выкатывался в коридор, за обедом мы не разговаривали, на послеобеденной прогулке он жаловался на меня Юткевичу и Райзману. И вечером, встретив меня в коридоре, Сергей Иосифович говорил примерно так: “Паша, вы бы помягче с Володей, он очень переживает. Все-таки у него больное сердце. А все из-за чего? Он хочет, чтобы герой был революционером? Что вам, жалко, что ли?”
Ну, в общем, если разобраться, мне было “не жалко”. Когда же через несколько лет картина выйдет на экран и на нее повалит народ — в количестве 70-ти миллионов зрителей! — то девочки, млеющие в зале и в темноте обнимающие друг друга, как будто они обнимают красавца Видова, и не заметят в своем кумире ничегошеньки революционного.
А я как-то раз услышу по “Голосу Америки”, что фильм, каким-то образом проникший на американское телевидение, прозвали там “водка-вестерн”. В отличие от “спагетти-вестерна” режиссера Серджио Леоне.
Но был и еще один сильный соблазн, когда я писал “Всадника”. Вайншток, великий стратег и тактик, разработал многоходовую комбинацию, в результате которой руководителем делегации советских кинематографистов на фестивале в югославском городе Пула вместо Бориса Владимировича Павленка, председателя Госкино Белоруссии, становился Владимир Евтихианович Баскаков, первый заместитель председателя Госкино СССР. Павленка, натурально, это не обрадовало. Но остановить Вайнштока, идущего к цели, хоть он и не Кобзон, было так же не просто, как тех бизонов, от которых Видов — Джеральд спасает Луизу — Савельеву.
В умелых руках Вайнштока обычная поездка обычной делегации превращалась в роскошный увеселительный месячный вояж по Югославии двух семей, Баскакова и его, с женами и детьми. На двух “мерседесах” и по морю. Но жена и дочка Баскакова, чтобы не ставить замминистра в неловкое положение, были как бы при Вайнштоке. При нем же был и я. Впрочем, меня Вайншток недрогнувшей рукой сделал членом делегации. Законные делегаты в справедливом недоумении косились на молодого человека, не члена Союза, не имевшего еще ни одного поставленного фильма.