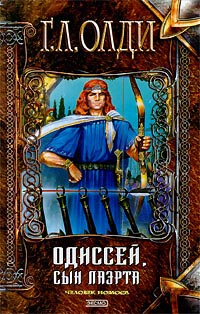Книга Богадельня - Генри Лайон Олди
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Душа, думал живой фратер Августин. Душа и тело. Мы рождаемся двухголовым зверем из сказки. Живем, пытаясь идти одновременно в две стороны. Мы даже идем, ухитряясь не разрываться пополам. Какое-то время – идем. Но молодость заканчивается, и душа начинает готовиться к отлету. Как мореход готовится к дальнему странствию, запасая провиант, теплую одежду, латая паруса… Душа пожирает тело изнутри, набираясь сил. Оболочка скоро сделается остовом хижины, брошенной на берегу. Прах к праху. К чему жалеть то, о чем больше никогда и не вспомнишь? – душа выгрызает сердцевину, делаясь все сильнее. Мы стареем, дряхлеем; приходят болезни и недуги. Мы чувствуем себя юными! пылкими! – это внутри распахиваются могучие крылья… – но коленки подкашиваются, руки опускаются, рот шамкает беззубо, и с ужасом понимаешь: юность с пылкостью – твои, но чужие. Еще твои, но вскоре – чужие. Может, завтра. Может, через неделю. Сегодня. К вечеру. Может…
Изъеденное тело умирает, отпуская на волю прелестную бабочку-убийцу.
Это участь большинства.
«Это участь большинства, – молчал мертвый врач Бурзой, однажды укравший пустую книжонку из-под ста замков. – Из них воздвигается Вавилонский Столп, но не ими охраняется и укрепляется. Лишь к немногим является Душегуб, верша Обряд. Является рано, в юные дни избранников, когда душа еще не взялась пить соки тела про запас, предвкушая дальний путь. Нащупывает звонкие нити, связывающие одно с другим. Трогает, извлекая звуки: гулкие, тихие… всякие. И наконец делает голема из глины. Из праха земного, телесного…»
Прах, думал живой фратер Августин. Земной, телесный. Кощунственное уподобление Творцу. Держа в руках тайные поводья, Душегуб умело направляет бег коней, отделяя душу от тела. Золотая статуэтка упрятана в ларец. С этого дня душа мирно покоится в родовом склепе. А тело живет дальше: само. Без души. Без смешной малости, которую нельзя потрогать, подержать, взахлеб ощутить потерю. Тело живет, не старея. Долго. Дольше обычного. Ибо некому отлетать, некому запасаться силами; некому разрушать дом на берегу. Дом разрастается: этаж за этажом, ярус за ярусом. Становится крепостью. Тело, свободное от необходимости кормить нахлебницу, делается крепче с каждым днем. Быстрее с каждым днем. Подвижней с каждым днем. Опасней с каждым днем.
С каждым поколением.
Но иногда всплывает вопль из глубины запертого ларца: откуда скука? почему скука?!
«Да, – молчал мертвый врач Бурзой. Лишь уголки губ тихо дернулись невпопад. – Люди-тела. Мудрец Платон называл таких – „стражами“. Ими охраняем Вавилонский Столп, а скука мешает им обратить силу против хранимого. Мелкие отклонения – не в счет. Но стражей недостаточно для идеала. И тогда к другим тоже приходит Душегуб, верша Обряд. Рано, в юные дни. Нащупывает звонкие нити. Тихонько шепчет еще дремлющей душе: лети…»
Лети, думал живой фратер Августин. Лети, душа. Рано? – пустяки! Начинай готовиться к отлету. Прямо сейчас. Вот тело – оно твое! Бери что хочешь, что надо. Расправляй крылья. Натягивай паруса. Жги дом на берегу, если желаешь согреться в ночи. Плоть в твоем распоряжении. Плоть болеет, страдает, распадается. Зрелость обращается в старость. В проломы стен лезут хвори. Нить отпущенного срока укорачивается. Зато дух исполняется небывалой мощи, еще при жизни тела воспаряя к небесам. Великие провидцы. Гениальные музыканты. Небывало зоркие астрологи. Поэты, ученые, лекари, маги, ваятели, пророки… Больные, изношенные тела – и мощь души, рвущейся с привязи. Скоро привязь лопнет. Скоро – свобода. Небеса навсегда.
Но иногда измученная плоть взрывается воплем: за что?!
Это случается редко.
«Да, – молчал мертвый врач Бурзой. – Люди-души. Мудрец Платон называл таких – „философами“. Ими укрепляем Вавилонский Столп, а немощь мешает им достигнуть опасных высот, обратясь против укрепляемого. Атланты не должны трясти небо. Но и философов недостаточно для идеала. Я пытался провести Обряд в самые первые дни после откровения. Тщетно. У меня в руках был тупой нож, арфа без струн, плащ из воздуха. Обряд оставался пустой забавой. Ничего не получалось. И я узнал: это потому, что нет Бога. Нет. Совсем. А надо, чтобы был. Иначе не случится чуда, первого толчка на долгом пути к идеалу. Я узнал правду, и я еще раз взял в руки „Пятикнижие“. И уединился здесь вместе с тремя своими дочерьми».
– Я делал Бога, – сказал мертвый врач Бурзой. – Я сделал Его. Здесь, в богадельне. Я знал: как.
Живой монах отшатнулся:
– Замолчи!!!
«Хорошо. Я замолчу… я сейчас почти всегда молчу…»
Сон бежал Вита. В келье, при свете одинокой свечи, парнишка чувствовал себя твердым и звонким. Будто колокол. Ударь – отзовется благовестом. Пускай челядь Базильсонов лежит вповалку на полу трапезной, дыша перегаром. Пускай спят мейстер Филипп и весельчак Костя. Пускай могучие братцы утробно храпят в потолок. Он, твердый и звонкий Вит, может бодрствовать хоть всю жизнь!
Выпитое вино толкало к подвигам.
Никогда раньше Виту не было так хорошо. Словно нес мешок с мукой, пыхтел, надрывался – и вдруг сбросил. Навеки. Теперь до скончания дней – налегке. Вот вам, болячки! дергунец! «курий слепень»! столбун! – выкусите! Вспомнилась Жучка-мелюзга, когда, ошалев от весеннего солнышка, псина каталась по земле, выпятив розовое брюхо. Вит счастливо расхохотался. Теснота? – пускай! Сквозняком крутнулся по келье: пол, стол, табурет, нары…
Язычок свечи моргнул.
Погас.
Темнота навалилась отовсюду, комкая праздник. Медведь-Якун, только не белый: черный. Впервые в жизни Вит испугался темноты. Дома всегда спал без света – скряга-мельник за свечку удавился бы… Кровь толкнулась в висках. Шепнула невнятицу; замолчала. Бесенята взялись за молоточки: тук-тук!.. так? так… Явилось уж вовсе несуразное: склеп могильный, ларец тайный, крышка захлопнута, а в гробу ларца – он, Витольд из Запруд. Только золотой. Лежит-задыхается. Крышку! крышку откройте! не слышат… Парнишка вдруг почувствовал себя твердым, звонким и одиноким. Это темнота. Морочит. Пугает, вредина. Это вино. Хмель шибает.
Ладно.
Дверь отворилась без скрипа.
Коридор. Тук-тук. Так?
Так…
– Матильда… Ты спишь?
– Не-а… входи…
Бесенята зачастили вдвое. Тук-тук, следи, пастух!.. горе человечку – волк возьмет овечку!.. Проем двери сделался узким, очень узким; входя в Матильдину келью, Вит густо покраснел, задержав дыхание. На лбу выступила испарина. Колючие, щекотные капельки. Где-то в животе шевелилась букашка-подружка: радовалась. Чему? Наверное, свету. Келья девушки ничем не отличалась от Витового жилища, кроме перины и горящей свечи на столе. Свеча была толстая, розовая, с наплывами воска. Вит старался на нее не смотреть, но все равно смотрел, краснея еще больше.
Это, наверное, чтобы не смотреть на Матильду.
Оставшись в нижней сорочке, девушка расчесывала волосы. Уложенная к Обряду башня прически становилась просто русыми кудрями. Падала на голые плечи. Только локоны на висках по-прежнему крутились змейками. Ужалят – насмерть. Вспомнилась мамка: сидит, с гребнем в руках, а у ног Вит примостился. Малый совсем… тепло ему, хорошо…