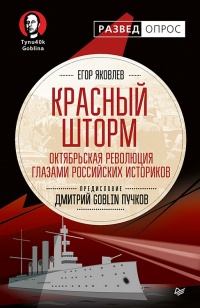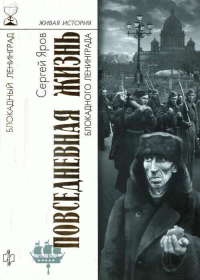Книга Аскольдова тризна - Владимир Афиногенов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Уж так получилось (намеренно древляне такое не посмели бы сделать), что лодья Умная была больше княжеской. А при появлении белого призрака в момент проведения крады в честь погибшего Радомила киевский архонт по-настоящему испугался и подумал, что если он проведёт совет на одном из судов воевод, то сие будет расценено как стремление его, правителя, к более тесному общению с высокопоставленными подчинёнными и его желание идти им навстречу. Всё это при сложившихся обстоятельствах есть, как считал Дир, залог его безопасности.
Конечно, для архонта на древлянском судне нашлась хорошая просторная каюта. Из неё и пришлось наблюдать ему за нападением жуткого крылатого воинства. В это время с ним рядом был и новый верховный жрец, который, насмотревшись на дикость сего нашествия, пришёл в неописуемый ужас. Не в лучшем душевном состоянии пребывал и Дир: ему казалось, что «тьма» напущена богами за убийство родного брата и верховного жреца Радовила и что явившийся белый призрак — это и есть пурга сатаны...
— Смотри, Донат, от неё даже земля потемнела, — сказал Дир. И когда он повернул голову к верховному жрецу, трясущемуся от страха, и посмотрел на лицо его, ставшее белее паруса, тот, заикаясь, ответил:
— Княже, боги страшно гневаются на нас. А свой гнев они проявляют в пругах... Надо принести богам великую требу.
Архонт перевёл взгляд на реку, потом вдаль, увидел какое-то просветление и начал успокаиваться: туча саранчи редела, значит, она полетела дальше.
Вскоре всё вокруг очистилось, и страх, вызванный нашествием саранчи, показался Диру смешным.
— Так что под великой требой ты, жрец, подразумеваешь?
— Чтобы умилостивить богов и спокойно плыть дальше, мы должны принести в жертву своего ратника...
— А давай обойдёмся животными и петухами? — предложил архонт.
— Прости меня, княже, — голос Доната окреп настолько, что он мог уже возражать, — считаю, что торг с богами неуместен...
— Хорошо, но кого же мы определим в жертву? — строго спросил верховного жреца Дир.
— Пусть ратники кидают между собой жребий.
— Ладно... Поговорим на совете и об этом, — согласился Дир.
На совете в решении вопроса о человеческом жертвоприношении голоса разделились строго поровну: Светозар, Умнай и Вышата были против, а трое боилов, в их числе и жрец, проголосовали «за»; теперь ждали, на чьей стороне окажется сам правитель.
Дир подумал, что для него сейчас будет полезнее поддержать проверенных в первом походе на Византию воевод и не следует будоражить ещё смертным жребием бедных ратников, которым и так сегодня досталось.
И архонт отдал свой голос за отмену человеческого жертвоприношения. Верховный жрец с низко опущенной головой быстро вышел из каюты...
Решили и ещё один вопрос — на Березани не задерживаться (ранее на нём все, кому предстояло плыть по Понту Эвксинскому, отдыхали два дня). Рассудили так: там теперь саранчой съедено всё, и сейчас остров гол, как голова лысого, и пустынен, ибо птицы его наверняка покинули и всякая живность тоже...
Мудро поступил князь! Когда ратники узнали, что им ещё следовало испытать и что решил Дир по этому поводу, они стали поминать его добрыми словами. Сие, конечно, поспособствовало тому, что все вскоре пришли в доброе состояние духа; быстро отмыли лодьи от липкой зелёной грязи, поставили паруса (объеденные саранчой заменили на новые), да потом разрешили воинам развести на железных листах огонь и сготовить горячий обед.
Может показаться, как мало надо человеку! Но это только на первый взгляд. Давайте порассуждаем...
Вот двадцать пять тысяч ратников. Пусть сие число будет округлённым, в него, разумеется, не войдут при метании жребия боилы, тысяцкие, сотские, десятские. Они не будут кидать смертный жребий. Но остальные-то станут! И неважно, сколько человек их будет — сто или двадцать пять тысяч; кому-то одному из них придётся умереть, и каждый (да-да, каждый!) будет ожидать своей ужасной участи, пока жребий не покажет кому... А если он покажет на меня... на меня... на меня! И сие страшно, как страшно нашествие саранчи, как нападение хазар на Киев...
И это верно угадал, несмотря на сердечную чёрствость, Дир, и слава ему, что отменил жуткое испытание.
Когда лодьи снова побежали под ветром, общее душевное состояние ратников вылилось в их песне, затянутой на головной лодье и подхваченной на остальных:
Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла?
Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда цвела, когда вызрела?
Я весной взошла, летом выросла,
Я весной цвела, летом вызрела.
Под тобой ли, рябинушкой,
Что не мак цветёт, не трава растёт,
Не трава растёт, не огонь горит,
Не огонь горит — ретиво сердце,
Ретиво сердце, молодецкое,
Ах, горит, горит, как смола кипит!
Деревенского пастуха из Македонии Василия, который ещё шталмейстером обязан был присутствовать в Магнавре на приёме императором иностранных послов, всякий раз изумляло действие во дворце спрятанной где-то машины, возносившей кафизму с василевсом, заставлявшей двух львов из чистого золота, лежащих на ступеньках, поднимать головы и грозно рычать, а также золотых птиц на древе за троном взмахивать крыльями и петь на все лады.
Став сам императором, не раз теперь возносимым машиной под потолок, где на специальной площадке его быстро переодевали в более роскошное платье и потом снова опускали к одуревшим от увиденного гостям, Македонянин не выкинул из своей крепкой головы (из-за неё и получил прозвище Кефал) мысль узнать, как работает эта машина.
Новый василевс её, стоявшую под полом, самолично обследовал, но кроме маховиков и барабанов, наполненных водой, ничего не обнаружил. А так как в жизни у него в руках перебывало всего три инструмента — кнут, чтобы погонять гусей, уздечка для лошадей и тяжёлый молот для наковальни, то, несмотря на свой сметливый природный ум, не понял, как всё-таки работает эта машина. Приказал доставить мастеров, но вскоре ему доложили, что их на свете нет, так как сия машина была сделана давно; да проживи они по иудейскому пожеланию до ста двадцати лет, ничегошеньки бы и не сказали, потому что каждому мастеру отрезали язык и руку...
Василий Первый при этом сообщении улыбнулся и про себя, но беззлобно отметил: «Вот зверские обычаи... Мне ещё как императору предстоит их освоить...» Видимо, в этот момент он подзабыл, каким образом сам сел на трон, поднимаемый сим неразгаданным механизмом.
Игнатия, бывшего в заточении, Македонянин вернул, а Фотия от патриаршества отстранил. Кастрат хотел упечь своего врага дальше тех мест, где находился сам, но Василий Первый воспротивился:
— Убийство Михаила нам сошло с рук... Далее судьбу испытывать не станем... Чернь возбудима, и достаточно будет одной искры, чтобы она воспламенилась. Чернь любит страдалицу Феодору, а Фотий — её племянник, хотя и держал он сторону императора.