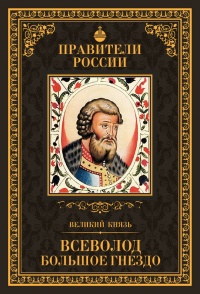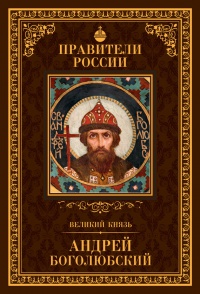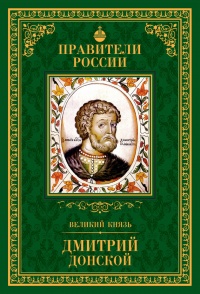Книга Иван Калита - Максим Ююкин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Иван Данилович молчал. Умолкла и Елена, смежив веки и положив согнутую в локте руку на подушку, чуть выше головы.
— Возьми... — прошептала вдруг княгиня.
Иван Данилович протянул руку к столу, думая, что жена просит подать ей стоящую на нем чашу с питьем.
— Возьми себе... жену, — задыхаясь, с трудом выговорила княгиня. — Одному быть негоже... Да и детям... нельзя расти... без ласки...
Елены не стало в первый день весны. Хоронили ее в монашеском облачении — за два дня до смерти княгиня возжелала принять схиму. Иван Данилович с Семеном и двумя боярами сам нес гроб с телом жены по рыхлому, ноздреватому, как пемза, снегу к месту последнего успокоения. Позади, держась за руки нянек, шли младшие дети; на их лицах застыло несвойственное их возрасту сосредоточенное, серьезное выражение. Над Москвой вязко тек печальный благовест, которому вторило жалобное завывание резкого сырого ветра, и оба эти звука сливались в затуманенном сознании Ивана Даниловича в единый плач по усопшей, которому вторил безжалостный голос откуда-то из глубин души: «Не уберег! Это ты не уберег!» С пронзительной болью и жгучим раскаянием вспоминались князю все, даже мелкие, размолвки, произошедшие у него с Еленой, все, что хоть немного огорчило или обидело ее. Последняя из размолвок произошла недели за три до болезни Елены. Как-то, возвратившись с прогулки, великая княгиня между прочим спросила мужа, сбрасывая с плеч белую, блестящую алмазными каплями соболью шубку на руки служанке:
— А что это за отрока я давеча видала в саду? Одет по-княжьи, мамки вокруг него точно наседки, а в очах — такая тоска, у меня инда сердце заболело. Кто он?
— А.. Это Константинов братанич, Андрейко. Здесь пока поживет, — отозвался Иван Данилович и в ответ на удивленный взгляд пояснил: — Нет у меня доверия к Константину, нутром чую — замышляет зятек какую-то пакость. А покуда мальчонка в моих руках, он у меня что конь взнузданный будет, куда попало не рыпнется.
В широко раскрывшихся глазах Елены разлились изумление и ужас, лицо исказилось, как от боли.
— Да как же ты мог, Иване! — воскликнула она, непроизвольно делая шаг назад. — Отнять дитя у матери, заставить ее жить в тревоге за свою кровиночку! Ведь это же грех, грех великий! Али мы не люди? А ежели Константин пойдет-таки супротив тебя, тогда что? Велишь убить младенца, как Юрий убил рязанского князя? Так вот вы какие, Даниловичи! Боже мой, а я-то... — и княгиня, закусив губу, чтобы не расплакаться, отвернулась к окну, опершись о подоконник тонкими, почти прозрачными пальцами.
Иван Данилович был заметно смущен и раздосадован.
— Ты того... не лезь в это... Не твоя это бабья забота, — неуверенно пробормотал он, не глядя на жену.
Елена молчала.
— Да пойми ты: так надо! — с сердцем сказал князь. — Ведь это токмо так, для острастки. Что бы ни было, никто дитя не тронет, клянусь тебе. Ну чего ты так расстроилась, Оленушка? Все будет хорошо. — Подойдя к Елене, Иван Данилович сделал попытку обнять жену за плечи, но та резко высвободилась и быстрым шагом вышла из светлицы. Великий князь тяжело вздохнул.
— Нет, нельзя жену к княженью подпускать, никак нельзя. Прахом пойдет все дело, ежели его бабе доверить. Это уж точно, — задумчиво проговорил он, с рассеянным видом царапая твердым, как панцирь, ногтем голубую слюду окна.
Печальная торжественность церковного обряда, в которой Иван Данилович всегда черпал успокоение и облегчение душевной тяжести, словно находя в его неторопливом, изначально предопределенном течении некую опору, на этот раз подействовала на него крайне угнетающе. Вспомнилась недавно напугавшая москвичей гибель солнца. Так вот что она предвещала... Заметив, что Иван Данилович на грани душевного надлома, митрополит после завершения церемонии подошел к нему.
— Там, где она ныне, ей лучше, — мягко сказал Феогност, положив руку князю на плечо. — Она возвратилась домой.
Не ответив, Иван Данилович, комкая в руке шапку, вышел из храма.
Когда вечерняя тьма стала в дозор на городских стенах Вильны и тонкий молодой месяц золотой занозой впился в мускулистое темно-сизое тело кучистых туч, в дворцовом саду Верхнего замка появились два человека. Их силуэты были едва различимы в растекшейся по миру сумеречной мгле, голоса негромки. Они медленно прохаживались по прямым, пересекающимся под прямым углом дорожкам, о чем-то беседуя. То не была беседа равных: один из говоривших почтительно держался чуть поодаль и постоянно посматривал на своего собеседника, точно ловя каждое его слово, тогда как тот едва ли хоть раз обратил на своего спутника взор.
— Мои послы оказались недостаточно убедительными, пытаясь склонить митрополита Феогноста к признанию независимой от Новгорода архиепископской кафедры в Плескове, значит, необходимо найти другие, более веские доводы, — спокойно, с достоинством произнес приятный низкий голос, принадлежавший, как нетрудно было догадаться по сказанным им словам, не кому иному, как великому князю Гедиминасу.
— Явное насилие над духовным лицом вызовет на Руси всеобщее возмущение и может повлечь непредсказуемые последствия, — возразил его собеседник, которым был ближайший приближенный и советник Гедиминаса Кейстут. — Князь Иван весьма решителен и не склонен покорно сносить обиды.
— Это смотря какое лицо имеется в виду, — отозвался Гедиминас. — Конечно, мы не можем непосредственно воздействовать на Феогноста, но новгородский архиепископ — это совсем другое дело.
— Неразумно было бы осложнять отношения с Новгородом сейчас, когда мы ведем с ним напряженные переговоры о выделении княжичу Нариманту удела в новгородских владениях.
— Скорее наоборот. Переговоры уже давно не движутся с места, и небольшое давление сделает новгородские золотые пояса более сговорчивыми.
— Но союз с Литвой отвечает и их устремлениям, — не сдавался Кейстут. — Русь хрипит и истекает кровью под татарским сапогом, дни ее сочтены. Чтобы не разделить ее судьбу, а, напротив, сохранить и приумножить свое процветание, Новгород нуждается в установлении прочных связей со своими западными соседями. Они лишь пытаются выговорить себе наиболее выгодные условия: не стоит забывать, что новгородцы прежде всего расчетливые купцы, которые привыкли торговаться до последнего.
Последовало молчание: казалось, слова вельможи заставили князя задуматься. Затем Гедиминас произнес:
— Я обещал князю Александру поддержку и намерен сдержать свое слово.
— Александр Тверской конченый человек, — в пылу спора Кейстут явно забылся, ибо в его голосе послышались резкие, раздраженные нотки. — Он никогда не сможет ни сбросить власть татар, ни вернуть себе их доверие. Делать на него ставку — значит обрекать себя на неудачу.
— И все же я попытаюсь, — не допускающим возражений тоном ответил князь. — Пусть архиепископа Василия и его свиту перехватят по дороге прежде, чем он успеет покинуть подвластные нам земли. И попросите о помощи татарского баскака в Киеве, — прибавил он. — В отношении Руси у нас с Ордой общие интересы, и действовать мы должны заодно.