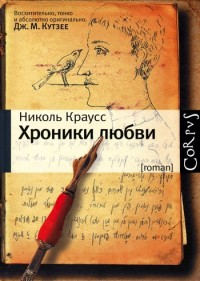Книга Большой дом - Николь Краусс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Когда я добрался до гостиницы, почти стемнело. Стены крошечного душного вестибюля были обклеены обоями в цветочек, на столиках в глубине стояли вазочки с букетами из искусственных шелковых цветов, а на стене, хотя до Рождества оставалось еще несколько недель, висел большой пластмассовый венок, и все это вкупе производило впечатление музея, открытого в память о давно угасшей, погибшей цветочной цивилизации. Клаустрофобия, которую я ощутил на вокзале, накатила с новой силой, и когда девушка-портье попросила меня заполнить регистрационный бланк, мне вдруг захотелось выдумать себе другое имя, другое занятие, словно вымысел принесет облегчение и умчит меня отсюда в какое-то другое, неведомое измерение. Окно моей комнаты выходило на кирпичную стену, и на ней также продолжалась и творчески развивалась цветочная тема. Несколько минут я просто стоял в дверном проеме, не веря, что смогу провести здесь ночь. Ноги у меня разболелись, распухли и стали как колоды. Если бы не это, я бы почти наверняка развернулся и уехал. Лишь полное, абсолютное изнеможение заставило меня войти в номер и повалиться на стул, обитый тканью с яркими розами. Больше часа я боялся закрыть дверь, боялся остаться наедине с этой удушливой искусственной жизнью. Казалось, стены клонятся, чуть ли не валятся прямо на меня, и я поневоле задавался вопросом — не так четко сформулированным, а всплывавшим во мне фрагментами, обрывками мыслей: какое право имею я трогать надгробие, которое она хотела оставить нетронутым? Вопрос подступил к горлу, ко рту, обжег как желчь, и я понял: то, что я собираюсь сделать, выставит напоказ ее вину, обличит ее — вопреки ее желанию. Неужели я хочу ее наказать? Но за что? За что, за какие провинности наказывать эту бедную женщину? У меня есть ответ, который на самом деле — только часть ответа. Я хотел наказать ее за невыносимый стоицизм, который лишил меня возможности быть по-настоящему необходимым для нее в самом глубинном смысле — люди, испытавшие эту необходимость друг в друге, часто называют ее любовью. Конечно, она во мне нуждалась: поддерживать порядок в доме, ходить в магазин, оплачивать счета, составлять ей компанию, доставлять ей удовольствие, а в конце — купать, обтирать, одевать, везти ее в больницу и, наконец, хоронить. Но для меня никогда не было очевидно, что для всего этого ей нужен именно я, а не какой-то другой мужчина, тоже любящий, тоже готовый сделать для нее все. Полагаю, можно сказать, что я никогда не требовал от нее доказательств любви, но я и в самом деле никогда не чувствовал, что имею на это право. Или, возможно, я боялся, что она — предельно честная, неспособная терпеть малейшей неискренности — не станет ничего доказывать, я боялся, что она просто запнется, замолчит на полуслове, и что тогда прикажете делать? Да и выбора-то нет никакого, останется только встать и уйти навсегда. Или вести прежнюю жизнь, но уже без иллюзий, а прекрасно зная, что оказался рядом с ней случайно, что на моем месте могли быть многие? Не то чтобы я считал, что она любит меня меньше, чем любила бы другого мужчину, хотя временами, признаюсь, я боялся именно этого. Нет, сейчас я говорю, во всяком случае, пытаюсь говорить об иных материях, о том, что самодостаточность лишила ее возможности нуждаться во мне так же сильно, как нуждался в ней я. Доказательств этой самодостаточности было пруд пруди, главное: она смогла в одиночку справиться со своей невероятной трагедией, причем именно безмерное одиночество, которое она вокруг себя соорудила — а потом свернулась, уменьшилась, завернулась в него, превратив безмолвный крик в бремя затворнической работы, — и позволило ей одолеть горе. Какими бы мрачными или трагичными ни были ее рассказы, само их создание было воплощением надежды, отрицанием смерти или даже воплем жизни перед лицом смерти. А для меня там места не находилось. Она поднималась на чердак, в кабинет, и работала. Не важно, есть я внизу или нет, она бы все равно делала то, что всегда делала за столом, в одиночку. И выжить ей помогало именно творчество, а не мое общество или забота. На протяжении всей нашей совместной жизни я настаивал, что в нашем дуэте она — элемент зависимый. Что ее нужно защищать, что о ней нужно заботиться, что она требует деликатного обращения. А на самом деле это я нуждался в том, чтобы во мне нуждались.
С большим трудом я заставил себя доплестись до гостиничного бара и выпить для успокоения джин с тоником. Кроме меня в баре пили два «божьих одуванчика» — две старушки, сестры, возможно даже близнецы, они сжимали бокалы одинаковыми, искореженными артритом руками. Минут через десять одна из них встала и ретировалась — медленно, словно исполняла пантомиму, — а другая чуть задержалась, а потом так же плавно, словно в замедленной съемке и без того нарочито затянутой прощальной песни из мюзикла «Звуки музыки», она тоже вышла вон, но, проходя мимо барной стойки, успела повернуть голову и одарить меня леденящей душу улыбкой. Я улыбнулся в ответ — а что поделаешь? Моя мать всегда говорила, что манеры человеку помогают, жаль только, что те, кому они больше всего необходимы, меньше всего склонны ими пользоваться. Иными словами, иногда вежливость — это единственное, что отгораживает тебя от безумия.
Через час я вернулся в номер 29. За это время сам воздух, похоже, пропитался тошнотворным цветочным ароматом. Я выудил из сумки бумажку, которую дал мне Готтлиб, и набрал номер. Трубку сняла женщина. Могу я поговорить с госпожой Элси Фиске? Я у телефона. Не может быть! Я чуть не произнес это вслух — видно, до последней секунды верил, что расследование Готтлиба заведет меня в тупик и я благополучно отправлюсь домой в Лондон, к своему саду, книгам и изредка забредающему в сад коту. То есть я рассчитывал, что попытаюсь найти ребенка Лотте, но потерплю неудачу. Эй, вы здесь? — окликнула женщина в трубке. Вы меня, ради бога, извините, я по очень деликатному делу. Я бы хотел поговорить с вами лично, боюсь только вас потревожить… Кто вы? Меня зовут Артур Бендер. Дело в том, что моя жена — мне действительно очень неловко, простите, уверяю вас, я совсем не хочу вас как-то огорчать или доставлять неудобство… В общем, не так давно моя жена умерла, и мне стало известно, что у нее был ребенок, о котором я никогда прежде не знал. Она передала ребенка, мальчика, на усыновление в июле сорок восьмого года. На другом конце линии повисла тишина. Я откашлялся. Ее звали Лотте Берг, начал я, но женщина меня перебила: что вы хотите, мистер Бендер? Не знаю, почему меня прорвало, почему я сразу стал говорить с ней так откровенно, возможно, я распознал что-то в ее голосе, в ее речи — тон? ясность? ум? — но произнес я следующее: если я сейчас начну отвечать вам как на духу, миссис Фиске, вам придется слушать всю ночь. Попробую сказать как можно короче. Я приехал в Ливерпуль, чтобы попросить вас, хотя мне бы не хотелось вторгаться в вашу жизнь, но все-таки, если это возможно, я бы попросил разрешения познакомиться с вашим сыном. Повисла новая пауза, она длилась и длилась, потому что за это время растительность на стенах распустила бутоны и стала подбираться к потолку. Его нет в живых, коротко сказала она. Уже двадцать семь лет.
Ночь тянулась долго. В комнате было невыносимо душно, и время от времени я порывался открыть окно, но, встав, вспоминал, что оно запечатано наглухо. Одеяло и даже простыни я сбросил и лежал, раскинув руки и ноги, на голом матраце, а от пышущей жаром батареи шел раскаленный воздух, и жар этот проникал не только в мои легкие, но и в мои обрывочные сны, заражал их, как тропическая лихорадка. В снах этих не было слов, только громадные искаженные образы: то влажные, набухшие куски сырого мяса в черных сетках, то белые пакеты, из которых сочилась густая бесцветная жидкость и по капле разбивалась об пол, то кошмары из снов моего детства, даже более ужасные, чем тогда, так как в полубреду я все-таки осознавал, что они — предвозвестие смерти. Нам следует определиться с терминами, много раз мысленно повторял я… Или не я? Голос был бестелесен, но я принял его за собственный. Лишь одно сновидение выделялось из этого чудовищного парада: простой сон, где Лотте выводила на песке длинные линии большим пальцем ноги, а я смотрел на нее, приподнявшись на локтях, причем я находился в теле человека намного более молодого, заведомо — в чужом теле, и я это ощущал, как грозовое облако на горизонте яркого дня. А проснулся — даже охнул: отсутствие Лотте было словно удар под дых. Я поглотал воды, наклонившись над краном в ванной, а когда подошел к унитазу, выдавил только каплю, и внутри осталось жжение, точно там не моча, а песок. И внезапно — так приходят к нам важнейшие озарения о самих себе — до меня дошло: какой же я идиот! Посвятил жизнь изучению каких-то поэтов-романтиков! Я спустил воду. Принял душ. Оделся. Расплатился за номер. Когда девушка-портье спросила, понравилось ли мне у них в гостинице, я улыбнулся и ответил «да».