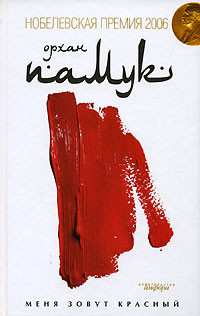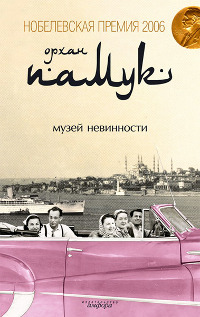Книга Турция. Биография Стамбула - Орхан Памук
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды, когда мне удалось всерьез уязвить брата, он процедил сквозь зубы: «Подожди, вот уйдут родители вечером в кино — я с тобой разделаюсь!» Как ни умолял я за ужином папу с мамой не ходить в кино, как ни расписывал им угрозы брата, они все-таки ушли и оставили нас наедине — так миротворческие силы уходят из района вооруженного столкновения в уверенности, что им удалось примирить враждующие стороны.
Порой, когда мы, оставшись одни дома, устраивали одну из своих бесчисленных потасовок и успевали как следует войти в раж, раздавался звонок в дверь, и мы, словно супруги, застигнутые соседями в разгар семейной склоки, в ту же секунду приходили в себя и, приведя одежду в порядок, шли открывать нежданному гостю, вежливо приглашали его войти, говорили «присаживайтесь, пожалуйста» и, весело переглядываясь, сообщали ему, что мама скоро должна прийти; однако позже, оставшись одни, мы не продолжали прерванную ссору, как поступили бы сварливые супруги, а тихо-мирно возвращались к своим делам, как будто ничего и не было.
Иногда, получив особенно сильную взбучку, я оставался валяться на ковре, плача, как ребенок, воображающий собственные похороны, пока наконец не засыпал прямо на полу. Брат был, в сущности, человеком не менее добросердечным, чем я; позанимавшись некоторое время за своим столом, он начинал меня жалеть, будил и начинал уговаривать переодеться и лечь в постель. Я вставал, но валился в постель, так и не раздевшись, и засыпал, упиваясь печалью и жалостью к самому себе.
Печаль и унижение, на которые я «напрашивался» и которых в конце концов «добивался», удивительным образом освобождали меня от необходимости заучивать заданные на дом правила, решать математические задачи, вчитываться в статьи Карловицкого договора[91]и вообще обращать внимание на трудности жизни — теперь мне уже было все равно. Побитый и униженный, я чувствовал себя свободным. Иногда мне хотелось оказаться избитым именно для того, чтобы обрести свободу, чтобы мне стало все равно. Брат чувствовал это, когда говорил, что я «напрашиваюсь». Порой мне хотелось избить его именно за это и еще за то, что он умнее и сильнее меня, но побитым неизменно оказывался я сам.
После каждой взбучки меня охватывало мрачное уныние. Я чувствовал себя виноватым, упрекал себя за слабость, беспомощность, лень. «В чем дело?» — спрашивал меня внутренний голос, и я отвечал: «Плохо мне. Я плохой». И этот ответ внезапно открывал передо мной совершенно новый прекрасный мир свободы. Если я безоглядно соглашался быть плохим, это значило, что я могу рисовать, когда захочу, не учить уроки, спать в одежде. С другой стороны, я чувствовал странное удовлетворение, оказавшись избитым и униженным — пусть весь я был в синяках, пусть губы мои были разбиты и нос кровоточил, пусть гордость моя была уязвлена тем, что оказался слаб и ничего не смог противопоставить грубой силе соперника. Быть может именно в один из таких моментов, предаваясь красочным фантазиям, я был околдован мечтой совершить однажды что-нибудь великое. Мир воображения, даривший мне радость и счастье, становился только ярче и заманчивее после выплеска эмоций в проигранной драке. В такие моменты я инстинктивно ощущал, что во мне живет печаль моего города; и если с этой печалью в сердце я брался за бумагу и карандаши, то рисовал с еще большим увлечением, чем обычно, и по мере того как игра воображения заставляла меня забывать реальный мир, печаль потихоньку становилась все светлее и светлее.
Чужая школа
Если учесть год, проведенный мною на подготовительных курсах английского языка, я проучился в Роберт-колледже четыре года. В эти годы кончилось мое детство — я понял, что мир гораздо сложнее, чем я полагал ранее, и ужасающе безграничен. В детстве я не знал ничего, кроме семьи, дома, своей улицы и своего квартала, казавшегося мне центром вселенной. В начальной и средней школе я только еще больше укрепился в мысли, что географический центр моей жизни является в то же время образцом для всего остального мира. Теперь же, в лицее, я начал осознавать, что живу вовсе не в центре мира и, что еще горше, место, где я живу, никак нельзя назвать идеальным. Осознав незначительность своего места в мире, неполноту своих знаний и уязвимость убеждений, обнаружив, какой этот мир огромный и сложный (мне нравилось заходить в лицейскую библиотеку, основанную нашими далекими от религии американскими преподавателями, бродить по напоминающим лабиринт проходам между стеллажами, вдыхать аромат старой бумаги и рыться в книгах), я впервые испытал сильнейшее чувство одиночества и бессилия.
Одиноким я чувствовал себя еще и потому, что рядом со мной больше не было брата — когда мне было шестнадцать, он уехал в Америку учиться в Йельском университете. Пусть между нами то и дело вспыхивали конфликты — все же мы были очень близки, и его мнениям и суждениям я придавал даже большее значение, чем маминым и папиным. Я не очень расстраивался из-за того, что остался один — по крайней мере, теперь я был избавлен от постоянного соперничества, унижений и побоев, столь способствовавших развитию моего воображения и дававших мне право ничего не делать. И все-таки я скучал по нему, особенно когда меня настигала печаль.
Все мои трудности, казалось мне, — из-за того, что моя душа потеряла некую точку опоры. Вот только где она была, эта точка опоры? Как бы то ни было, теперь я не мог заставить себя заниматься уроками — да и многим другим — с прежней увлеченностью. Иногда мне было обидно, что теперь у меня уже не получается, как раньше, без особых усилий быть первым учеником в классе, но, похоже, я потерял способность сильно огорчаться или сильно радоваться из-за чего бы то ни было. В детстве я думал, что счастлив, а жизнь казалась мне мягкой, как бархат, веселой и увлекательной, почти сказочной историей. В тринадцать-четырнадцать лет я начал ощущать, что очарование этой сказки блекнет, а сюжет ее разваливается на куски. Иногда я изо всех сил пытался поверить в истинность каждого из этих фрагментов, и на некоторое время у меня получалось, — но потом ко мне возвращалась прежняя растерянность. Точно так же в начале каждого учебного года я давал себе обещание снова стать первым учеником и не выполнял его. Порой я чувствовал, что мир отдаляется от меня — именно тогда, когда я всем своим сознанием, всеми нервными окончаниями открывался ему навстречу.
Среди всей этой растерянности лишь сексуальные фантазии напоминали мне о существовании другого мира, в котором я могу укрыться. Секс появился в моем сознании не как нечто, объединяющее двух людей, а как грезы одиночки. Когда я научился читать, в моей голове появилась озвучивающая буквы машинка, теперь же я обзавелся машинкой другого рода — с поразительной бесцеремонностью она при любом удобном случае начинала создавать самую что ни на есть подробную сексуальную фантазию. Для этой машинки не было ничего святого — в ее жернова попадали все мои знакомые, все девушки с фотографий в газетах и журналах. Почувствовав, что фантазия достигла уже нестерпимой яркости, я запирался в своей комнате.