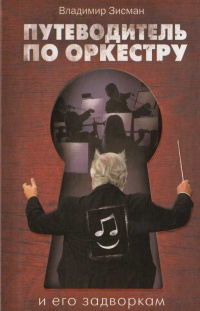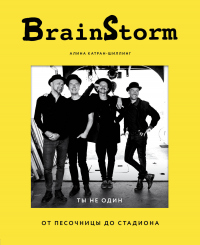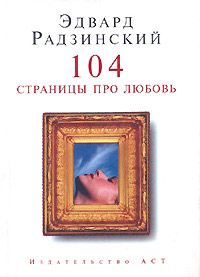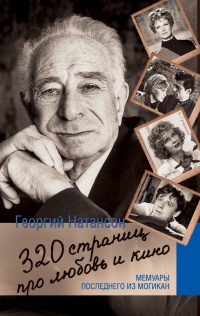Книга Джордж Оруэлл. Неприступная душа - Вячеслав Недошивин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Оруэлл, скрытный и молчаливый, разоткровенничается лишь после смерти Эйлин, в 1945-м. Слова его сохранятся, хоть и не предназначались для чужих ушей: «У меня было очень слабое чувство чисто физической ревности, – напишет в одном из писем. – Я особенно не заботился о том, кто с кем спит, мне казалось, что имеет значение верность в эмоциональном и интеллектуальном смысле. Иногда я изменял Эйлин и плохо обращался с нею. Наверное, и она временами плохо со мной обходилась. Но это был подлинный брак в том смысле, что мы вместе прошли через жуткие битвы…»
Рядовой свободы
1.
Пуля, прилетевшая из-за бруствера в пять утра, угодила ему в шею. Жизнь кончена, понял он. Он никогда не слышал, чтобы человек или зверь выживали, получив пулю в шею. А коль так, жить ему оставалось несколько минут.
Это случилось 20 мая 1937 года под Уэской, после пяти месяцев его личной войны против Франко. Он был уже лейтенантом, у него было почти тридцать бойцов. Днем они гнили в окопах, готовили еду на жиденьких кострах, мурлыкая под нос революционные песенки (каждый – на своем языке), а по ночам ходили в рейды и брали в плен фашистов. И вот та шальная пуля; он как раз инструктировал смену часовых.
«Мешки с песком, сложенные в бруствер, вдруг поплыли прочь…» Часовой, с которым он только что говорил, нагнулся: «Эй! Да ты ранен!» Потом попросил нож, чтобы разрезать рубаху. Оруэлл потянулся достать свой, но понял: правая рука парализована. «Поднимите его! – кричали со всех сторон. – Да расстегните наконец куртку!» А он лежал и понимал: его подвело рассветное солнце, его голова над бруствером в свете первых лучей оказалась отличной мишенью. А еще почти сразу вспомнил Эйлин и ее слова, что она даже хотела, чтобы его ранило. Он удивился еще, а она сказала, что просто мечтает, чтобы его ранило, а значит, не убило бы.
Крови почти не было. Кровь хлынула изо рта, когда Оруэлла попробовали приподнять. Тогда его и заколотило. «Ранение в горло», – шепотом сказал Гарри Вэбб, санитар, прибежавший с бинтом и спиртом. А начальник Оруэлла, молодой польский еврей капитан Левинский, на неописуемой смеси языков сокрушался: «При таком росте – и стоять в полный рост… Чудо, что не убили…» И, конечно, чудо – это выяснится потом, – что пуля не задела сонную артерию, прошла в миллиметре от нее. А ведь за одиннадцать дней до ранения, 9 мая 1937 года, он уже написал Голланцу: «Очень надеюсь выйти из всего этого живым, хотя бы для того, чтобы написать об этом книгу…» И вот – конец. «Мне, – пишет, – стало обидно покидать этот мир, который, несмотря на все его недостатки, вполне меня устраивал. Я думал также о подстрелившем меня… Поскольку он фашист, я бы его убил… но если бы его… привели, я поздравил бы его с выстрелом…»
Что он не умер, стало понятно, когда его, уложив на носилки, бегом потащили в медпункт. Два километра по скользкой тропе, когда ветки кустов буквально хлестали его по лицу, когда он и ругался от боли, и сдерживался как мог, ибо рот сразу же наполнялся кровью. Первый же врач, сменив ему повязку и всадив морфия, отправил его в Сиетамо, в наспех сколоченные бараки, которые назывались «госпиталь». Перевалочный пункт. Но именно здесь его успели нагнать двое друзей, отпросившихся с позиций.
– Привет! – разулыбались они. – Значит, ты жив? Хорошо. Давай нам свои часы, револьвер и электрический фонарик. И нож, если есть…
«Так поступали с каждым раненым, – пишет Оруэлл. – Часы, револьвер и другие вещи были необходимы на фронте, а если оставить их у раненого, их наверняка стащат по дороге». А еще пишет, что день этот – самый трудный в его жизни – закончился долгой дорогой в Барбастро, когда санитарные машины, загруженные под завязку, отправились в тыл. «Адское путешествие». Не зря гуляла шутка, что если тебя ранило в конечности, то ты после этой тряски выживешь, но если в живот – пиши пропало. Раненых ведь даже не привязывали к носилкам. Кого-то в кузове выкинуло на пол, другой, вцепившись в борт, всю дорогу блевал. А он, ухватившись левой рукой, в которой еще чувствовалась сила, в край носилок, лежал и вспоминал, как всё это началось. Как он оказался в этой чужой ему стране, зачем? И почему потом он назовет эту войну «вторым рождением»? И отчего, наконец, скажет позже Артуру Кёстлеру странную, необъяснимую фразу, что в Испании в 1936-м «остановилась сама история». До Фрэнсиса Фукуямы с его «концом истории»[31] было еще бесконечно далеко, но Кёстлер с лету поймет друга, вот в чем штука…
Оруэлл возник в Барселоне 26 декабря 1936 года. С перекинутыми через плечо сапогами и, видимо, в парижской еще куртке (ее два дня назад подарил ему великий Генри Миллер), он широко шагнул в уютный холл отеля «Континенталь». Сапоги и покорили Дженни Ли, дочь британского шахтера, партийного лидера, которая станет потом баронессой и даже первым министром искусств в правительстве Англии.
«Я, помню, сидела с друзьями, когда высокий худой человек подошел к нашему столу, – напишет она в 1950-м. – Он спросил, не могу ли я сказать, где тут регистрируются. Сказал, что он писатель… и вот приехал, чтобы водить машину или делать что потребуется, но желательно, чтобы это было там, где сражаются. Я не без подозрительности спросила, а есть ли у него рекомендации из Англии. У него не нашлось ни одной. Он никого не видел, просто заплатил за билет и приехал. Он покорил меня, показав на перекинутые через плечо связанные сапоги… Это и был Джордж Оруэлл и его сапоги, прибывшие воевать в Испанию…»
Говорящая деталь эти сапоги. С десяток биографов Оруэлла вроде бы не заметили этого факта. А напрасно. Из-за другой пары башмаков, которые закажет уже в Барселоне, он и увидит ту «майскую катастрофу», не только перевернувшую его сознание, но ставшую, по сути, главной темой его будущей книги об Испании. О той обувке рассказ впереди, а про эту – на плече – я, увы, не знаю даже, где он приобрел их. Возможно, еще в Лондоне, когда, заложив фамильное серебро, отправился в Испанию, а может, уже в Париже, где по пути остановился на пару дней.
В Париже, где всё напомнит о его молодости, ему до зарезу надо было отыскать маленький особнячок на улочке со странным названием Villa Seurat – Вилла Сера. Там в частном доме жил его кумир – Генри Миллер. Оруэлл им восхищался. Во всяком случае, когда еще в 1934-м у того вышел его топовый «Тропик Рака», почти сразу запрещенный в Англии «за безнравственность», Оруэлл, напротив, написал на него восторженную рецензию: «Он ведь знает обо мне всё… Я чувствую, что он пишет всё это для меня…»
Ох уж эти встречи великих! Пишут, что Оруэлл вроде бы хотел уговорить Миллера поехать сражаться с фашизмом. А Миллер – он был старше на тринадцать лет – назвал это всё «сущим бредом»: «Глупо ввязываться в драку посторонних из чувства долга или вины…» Тоже, впрочем, позиция!.. Что ж, на Вилла Сера столкнулись не просто писатели – два мировоззрения, миропонимания: наблюдателя и делателя – писателя-бойца…