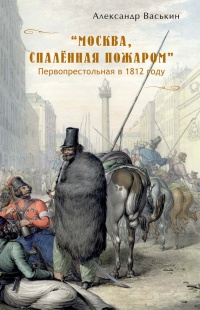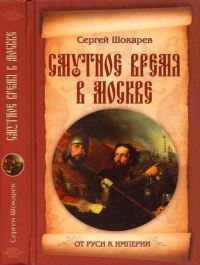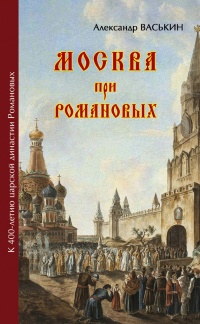Книга Исторические происшествия в Москве 1812 года во время присутствия в сем городе неприятеля - Иоганн-Амвросий Розенштраух
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В четверг 13 октября[514] на рассвете наши полковники ушли, уже попрощавшись с нами накануне вечером. Полковник Кутейль велел еще своему слуге заплатить за 14 бутылей красного вина, которые он у меня взял, по 5 франков за каждую. Я не хотел брать эти деньги, потому что полковник сделал нам много добра, а по ночам повальных грабежей жертвовал и своим сном и много раз лично подвергал себя опасности. Но [слуга], славный малый Леонхард, ужасно обидевшись, спросил, хочу ли я подарить что-то его господину или могу предположить, что он оставит приказ его господина невыполненным? Я должен был взять деньги, и после того он очень любезно простился со мной.
Слуга полковника Бонгара был также добрый и тихий человек, он прислуживал нам, как если бы мы были родней его господина. Лишь у Ноайля был дурной малый – увы, немец из Берлина. Его хозяин любил его как своего сына, оставался слепым к его проделкам и злым выходкам и проявлял к нему терпение, превосходившее человеческое. Часами этот человек заставлял своего хозяина ждать стакан воды или его чая, и если бы я не ухаживал за ним во время поразившей его болезни, он должен был бы угаснуть. Когда хозяин посылал его из комнаты, Фриц тотчас устремлялся к картежному столу и оставлял господина одного и без помощи. Злодей сказал мне однажды: «Мой хозяин готов биться насмерть, что никто не любит его больше, чем я; потому что во всех сражениях я рядом с ним, или так близко, как только возможно. Но делаю я это лишь для того, чтобы немедленно узнать, если он будет убит или попадет в плен, и быстрей мчаться к экипажу, чтобы присвоить его деньги и драгоценности».
Сразу по уходе наших квартирантов ко мне пришел тот жандарм, которому я дал во вторник 3 сентября заплесневевший горошек, и упрашивал меня в сей же день покинуть Москву, не называя, однако, причин своих настоятельных просьб. Я представил ему всю невозможность покинуть г-на Чермака с его детьми, если я захочу уйти из Москвы – тем более, что мне неизвестны резоны для такого бегства. Он покинул меня очень огорченный. Около одиннадцати он пришел во 2-й раз и сказал мне, что поговорил со своим офицером и тот предоставит жене и детям г-на Чермака место на большой фуре. Он очень настаивал, чтобы я принял его сделанное из лучших побуждений предложение и был очень огорчен, почти безутешен, когда я остался при своем отказе. Наконец он пришел в третий раз после 3 часов пополудни снова, возобновил свои просьбы самым настойчивым образом; и когда он не смог или не захотел назвать мне причины, почему я должен покинуть Москву – а я остался поэтому при своем, – он дал мне две бутылки красного вина и просил меня выпить их обе до последней капли пол-одиннадцатого до полуночи. Напрасно я старался дать ему понять, что я буду пьян после половины бутылки. «Этого-то я и хочу», – сказал он и самым трогательным образом попрощался со мной.
Я размышлял о необъяснимом поведении этого очевидно желавшего мне добра человека, когда живший напротив моего дома продавец модных товаров Арман[515] в полном отчаянии пришел ко мне и сказал, что в эту ночь в одиннадцать часов вся Москва должна взлететь на воздух. Я полагал, что это невозможно, и пытался утешить его, но он приходил в еще большее отчаяние и покинул меня. Теперь я мог, наконец, найти объяснение поведению доброго жандарма, который, вероятно, слышал что-то подобное и поэтому так настаивал, чтобы я покинул Москву и желал, по меньшей мере, чтобы я покинул этот мир без сознания, а именно напившимся.
Вечером, как обычно, я собрал всех моих обитателей дома на молитву, и после 10 часов все затихло. Но я не раздевался, потому что из разговоров что-то могло оказаться правдой, и лег в сюртуке и в сапогах сверху на одеяло на кровати, но не мог, конечно, сразу заснуть. Точно в тот момент, когда мои комнатные часы – которые совпадали с часами в Кремле – пробили одиннадцать, произошел первый взрыв[516]. Что-то подобное, хотя и значительно меньших масштабов, я уже слышал в Майнце, когда в 1795 г. тамошняя военная лаборатория взлетела на воздух[517].
Весь наш дом задрожал, зазвенели стекла, воздух свистел как при очень сильной грозе, а удары походили на мощнейший гром. Я вручил свою душу Богу, каждую секунду ожидая падения дома и своей смерти. Но как только через несколько минут снова стало тихо, я вскочил и побежал в соседнюю комнату, увидев там г-на Чермака, который склонился во весь свой рост над женой и детьми, защищая их распростертыми руками. «Быстро на просторный двор, пока нас не раздавит падающий дом!» – закричал я. Мы побежали на двор, найдя там уже собравшихся невредимых наших обитателей. Но так как было по-прежнему тихо, я созвал всех в низкую каменную кухню, где мы опустились на колени и благодарили Бога за наше спасение.
Между тем собственные мужики Демидова взломали амбары*, которые пощадили французы, и когда я снова вышел из кухни на двор, я увидел, как они грабят имущество их собственного господина. Насколько возможно ярко я представил им их беззаконие и ожидающее их наказание. Тогда они решили убить меня, чтобы не иметь свидетеля их деяний. Тотчас меня окружили более 30 мужиков и так сильно сдавили меня, что свои опущенные руки я должен был прижимать крепко к телу, как будто бы они были привязаны. Г-н Чермак хотел пробиться ко мне, но я воскликнул: «Не подвергайте добровольно вашу жизнь опасности, может быть вас и ваше семейство пощадят, если вы понапрасну не будете рисковать – потому что помочь мне вы все равно не можете. Бог меня спасет, если на то Его воля». Кажется невероятным, что разгоряченные мужики в течение нашего разговора вели себя так спокойно, но Бог обездвижил их руку. «Не могу смотреть, как вы умираете», – сказал г-н Чермак и спрятал лицо на груди своей жены. Теперь я ожидал смертельного удара или, скорее, многих ударов, потому что мужики были частью вооружены – и тут последовал второй взрыв.
Окружавшие меня крестьяне рассеялись в разные стороны. Я воскликнул: «Скорее, убейте меня, так чтобы я умер прежде третьего и самого сильного удара, который поднимет на воздух всю Москву и не оставит камня на камне. Вы, убийцы, умрете тогда смертью более мучительной, нежели буду убит я вашими руками за честный совет, который я вам дал. Тогда вы навеки попадете в преисподнюю как разбойники и убийцы, а я на небо, потому что я как честный человек противился грабежу имения вашего господина».
Я и до сих пор удивляюсь, как смог сказать все эти слова по-русски так хорошо, что смысл мужикам был совершенно понятен. Мужики снова приблизились ко мне, но уже в униженном просящем виде, а некоторые даже бросались передо мной на колени: вожаки протягивали в мольбе руки и сказали: «Батюшка, Иван Иваныч. Ангел наш, мудрец наш (и много подобных же выражений), скажи нам, что нам делать, чтобы спасти нашу жизнь и избежать такой ужасной смерти?» Я им ответил: «Если бы у меня, как у вас, была телега*, я бы ни единой секунды не оставался в городе, чтобы пули или падающие дома не размозжили меня или не погребли заживо. Потому что еще через полчаса, пожалуй, будет третий, самый сильный и последний удар». Едва я сказал это, как мужики побежали на второй двор, бросились на свои телеги и погнали за ворота, которые я тотчас за ними закрыл и хорошо забаррикадировал. Я поблагодарил Бога за спасение моей жизни и оставался на дворе, пока не произошло еще три взрыва – но уже много слабее, чем первые удары, потому что они были с другой стороны Кремля.